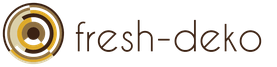В. Астафьев о той войне
Виктор Петрович Астафьев (1924 - 2001), писатель, фронтовик, Герой Социалистического труда, лауреат 5 Государственных премий.
Близится День Победы. Когда-то, при Сталине, 9 мая не было праздничным днем, - видимо причиной были страх диктатора перед ветеранами и стыд за чудовищные потери. Потом, при Брежневе этот день стал праздником, но «со слезами на глазах» - никаких парадов, только встречи ветеранов и цветы от всех остальных в благодарность за спасение. А сегодня? Чудовищная пошлость в виде демонстрации военной силы на Красной площади и повсеместных надписей «За немками!», «На Берлин!», «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Пыл вот таких «победителей» неплохо бы остудить воспоминаниями классика русской литературы:
«Не надо лгать себе. Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина - самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она "победила" 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь - и России не стало, нет и русского народа. Мы войну выиграли, завалив немцев горами трупов и залив их морем крови. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.
Вот такая история
Битва за Севастополь закончилась поражением. Город оставили. Вместе с жителями и армией. Эвакуации не было.
Вице-адмирал Октябрьский передал командование генералу Петрову и вместе с энкавэдэшниками сел в самолет, улетел в Краснодар.
Генерал Петров с партактивом и драгоценностями из банка часом позже уплыл на подлодке в Новороссийск. За этот час он успел отдать указание о взрыве пещер Инкермана. Там находился огромный подземный госпиталь, где наших раненых лежало до 20 тысяч человек. Взрыв слышали все.
Взорвали хлебозавод, детсад, временное жилье обслуживающего персонала. Почти стотысячная группировка войск осталась на милость врагу. Причал, на котором люди ждали кораблей, рухнул под тяжестью толпы. Корабли не пришли, начальники решили беречь флот. Всех попавших в плен потом объявили предателями.
8 мая 1944 года Севастополь отбили. Немецкая армия для эвакуации задействовала весь немецко-румынский флот. Около 2000 различных судов растянулись цепочкой через всё Черное море. Это был "живой мост" из непрерывно идущих конвоев - порожние спешили в Севастополь, а гружённые до отказа в Констанцу. Люфтваффе не могли обеспечить прикрытие, советская авиация топила всех подряд. Но десантные баржи отходили от Херсонеса вплоть до рассвета 12 мая. В плен сдалось 21 человек. Пока они находились в плену, в Германии их наградили Рыцарскими крестами.
«Надо становиться на колени посреди России и просить у своего народа прощение».
Весной 2009 года увидел свет том писем Виктора Астафьева (1924—2001) «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952—2001 годы» . Перед этим составитель и издатель — иркутянин Геннадий Сапронов (1952—2009) — дал изданию «Новая газета» верстку книги и право первой публикации выбранных редакцией писем.
Через три недели на одном из организованных «Единой Россией» собраний Сапронова и журналистов «Новой», представивших аудитории книгу, предложили за нее расстрелять; Геннадий написал: «Всё! Ухожу в партизаны». А через месяц, успев подготовить второе, дополненное издание писем Астафьева, он умер.
Виктор Астафьев. Фото: Анатолий Белоногов
1973 г.
(И. Соколовой)
[…] У Вас, да и в любой вещи, где есть «я» — оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я» и, главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше…
Но это именно наша бригада, вооружённая гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе (гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником), оказалась на острие атаки немцев. Сначала нас смяли наши отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться.
Потом хлынули танки — мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, сшибить и раздавить. Конечно, в итоге нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия — одно без колеса и что-то около трёхсот человек из двух с лишним тысяч. Но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки артиллерия и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил ещё один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой…
<…>
Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по-моему, заняла 27-я армия и устремилась вперёд, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон — от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вёл генерал Трофименко вперёд.
<…>
Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.
Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины! […]
(Адресат не установлен)
[…] Вот до чего мы дожили, изолгались, одубели! И кто это всё охранял, глаза закрывал народу, стращал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. Вы на фронте, будучи генералом, кушали, конечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, что даже Ванька-взводный и тот норовил и жрать, и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и «генерал» на передовой, да не «из тех», и быстро с голоду загнётся или попросту погибнет — от усталости и задёрганности.
Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.
Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов «правил» гласит: «Не выписывать компрометирующих сведений о командирах Совармии».
В самом деле: начни выписывать — и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котёл», в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). <…>
Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошёл героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смёл всё, что было у нас в Крыму?
И более того, оставив на короткое время осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, — одно дело, а воевать и войсками руководить — дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три (!) армии заплавали и перетонули в Керченском проливе.
Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии. <…>
Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны», обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности»: мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших.
Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это всё весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.
Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.
Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться, Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить: слишком их много, и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души. Чего Вам от души и желаю.
Виктор АСТАФЬЕВ.
<…>
Красноярск
(Г. Вершинину)
[…] Что же касается неоднозначного отношения к роману, я и по письмам знаю: от отставного комиссарства и военных чинов — ругань, а от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами: «Слава богу, дожили до правды о войне!..»
Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны — Победа. Пусть и громадной, надсадной, огромной кровью давшаяся и с такими огромными потерями, что нам стесняются их оглашать до сих пор. Вероятно, 47 миллионов — самая правдивая и страшная цифра. Да и как иначе могло быть? Когда у лётчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400—600 самолётов, а советский герой Покрышкин — два, и тоже герой… Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские лётчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали — готовились к боям.
Три миллиона, вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году, и 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине, их, чтобы не кормить и не охранять, даже в плен не брали, и они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами…
Ох уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона, — осталось уже только трое, — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному. А вот если свести эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, тысяч, миллионов — получится уже более полная картина.
«Всю правду знает только народ», — сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков.
Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию — и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на него, на милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит — вести себя достойно на земле, и, может быть, Он простит нас и не отвернёт своего милосердного лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию.
Вот третья книга и будет о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и не восполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, — нам не выжить. […]
1995 г.
(Кожевникову)
Дорогой мой собрат по войне!
Увы, Ваше горькое письмо — не единственное на моём письменном столе. Их пачки, и в редакциях газет, и у меня на столе, и ничем я Вам помочь не могу, кроме как советом.
Соберите все свои документы в карман, всю переписку, наденьте все награды, напишите плакат: «Сограждане! Соотечественники! Я четырежды ранен на войне, но меня унижают — мне отказали в инвалидности! Я получаю пенсию 5,5 тысячи рублей. Помогите мне! Я помог вам своей кровью!» Этот плакат прибейте к палке и с утра пораньше, пока нет оцепления, встаньте с ним на центральной плошали Томска 9-го Мая, в День Победы.
Вас попробует застращать и даже скрутить милиция, не сдавайтесь, говорите, что всё снимается на плёнку — для кино. Требуйте, чтоб за Вами лично приехал председатель облисполкома или военком облвоенкомата. И пока они лично не приедут — не сходите с места.
Если же Вас начнут преследовать, оскорблять — дайте мне короткую телеграмму об этом, и я этим землякам-сибирякам такой устрою скандал, что иные из них полетят со своих тёплых мест.
Сделайте ещё один подвиг, сибиряк! Во имя таких же униженных и обиженных, во имя своей спокойной старости. Желаю Вам мужества!
Ваш В. Астафьев, инвалид войны, писатель, лауреат Государственных премий
Копию письма Кожевникова вместе с моим — в Томский облисполком. Копия письма остаётся у меня.
(С. Новиковой)
Дорогая Светлана Александровна!
Уже давно получил Вашу книжку, но прочесть её никак не удавалось: суета, болезни, слабеющее зрение и графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение.
Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, Вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник, как ещё одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и до се царит в нашем одряхлевшем обществе, одряхлевшем и грудью, и духовно, и нравственно.
Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегает или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжков не читают и читать уже не будут, но через два-три поколения потребуется духовное воскресение, иначе России гибель, и тогда будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах.
Кстати, солдатик, даже трижды раненный, как я, на Руси ещё реденько, но водится, а командиры, маршалы, и главные, и неглавные, давно вымерли, такова была их «лёгкая» жизнь, да ещё этот сатана, за что-то в наказание России посланный, выпил из них кровь, укоротил век.
Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтоб и издали я увидел командующего 1-м Украинским фронтом Конева, и однажды — во судьба! — совсем близко под городом Проскуровом видел и слышал Жукова. Лучше б мне его никогда не видеть и ещё лучше — не слышать. И с авиацией мне не везло.
Я начинал на Брянском фронте, и первый самолёт сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего «лавочкина», упал он неподалёку от нашей кухни в весенний березняк, и как-то так неловко упал, что кишки лётчика, вывалившегося из кабины, растянуло по всей белой берёзе, ещё жидко окроплённой листом. И после я почему-то видел, как чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши и немецкие самолеты, так свято врали друг другу: «Вот опять херакнулся фриц!»
История с Горовцом не так хорошо выглядит, как в Вашей книге, он действительно сбил 9 самолётов, но не только Ю-873, но и других, и на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился, и к вечеру он был сбит и обвинён в том, что, упав в расположении врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности, и, когда на Курской дуге ставили памятник-бюст Горовцу, приехала одна мать, а отец сказал: «Они его продали, нехай они его и хоронять».
«Балладу о расстрелянном сердце» написал мой давний приятель Николай Панченко, он живет в Тарусе, под Москвой, почти уже ослеп. «Сталинград на Днепре» — документальную повесть — написал Сергей Сергеевич Смирнов, она печаталась в «Новом мире», а отдельного издания я и не видел.
О-ох как много мне хотелось бы Вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает, и я просто целую Ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце Ваше, столь вынесшее невзгод и выдержавшее такую работу.
Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой, и победителей наказывали. Как было не бояться сатане, восседающему на русском троне, объединения таких людей и умов, как Жуков, Новиков, Воронов, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившиеся из Европы и увидевшие, что живём мы не лучше, а хуже всех.
Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженые, когда нельзя было развести огонь.
О-ох, мамочки мои, и ещё хотят, требуют, чтоб наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да всё забито, заглушено, и истреблено, и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в 30-х годах, чтоб он разом поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой и Россией своей, большой и обескровленной.
Почитайте книгу, которую я Вам посылаю, и увидите, каково-то было и рядовым. Моя Марья, комсомолка-доброволка, и я, Бог миловал, ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в партии не состоявший, хватили лиха через край. Баба моя из девятидетной рабочей семьи, маленькая, характером твёрдая, и все тяжести пали в основном на неё. Умерло у нас две дочери — одна — восьми месяцев, другая 39 лет, вырастили мы её детей, двух внуков, но всё остальное Вы узнаете из книжки. И простите за почерк, пишу из родной деревни, а Марья с машинкой в городе, я и печатать-то не умею.
Низко Вам кланяюсь. Ваш В. Астафьев.
Весной 2009 года увидел свет том писем Виктора Астафьева (1924—2001) «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952—2001 годы». Перед этим составитель и издатель — иркутянин Геннадий Сапронов (1952—2009) — дал «Новой газете» верстку книги и право первой публикации выбранных редакцией писем (см. № 42, 46 за 2009-й). Через три недели на одном из организованных «Единой Россией» собраний Сапронова и журналистов «Новой», представивших аудитории книгу, предложили за нее расстрелять; Геннадий написал мне: «Всё! Ухожу в партизаны». А через месяц, успев подготовить второе, дополненное издание писем Астафьева, он умер.
Продолжаем публиковать письма, отобранные нами для газеты.
Алексей Тарасов, «Новая», Красноярск
Виктор Астафьев. Фото: Анатолий Белоногов
1973 г.
(И. Соколовой)
[…] У Вас, да и в любой вещи, где есть «я» — оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я» и, главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше… Но это именно наша бригада, вооружённая гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе (гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником), оказалась на острие атаки немцев. Сначала нас смяли наши отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться. Потом хлынули танки — мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, сшибить и раздавить. Конечно, в итоге нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия — одно без колеса и что-то около трёхсот человек из двух с лишним тысяч. Но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки артиллерия и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил ещё один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой…
Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по-моему, заняла 27-я армия и устремилась вперёд, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон — от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вёл генерал Трофименко вперёд.
Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.
Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины! […]
(Адресат не установлен)
[…] Вот до чего мы дожили, изолгались, одубели! И кто это всё охранял, глаза закрывал народу, стращал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. Вы на фронте, будучи генералом, кушали, конечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, что даже Ванька-взводный и тот норовил и жрать, и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и «генерал» на передовой, да не «из тех», и быстро с голоду загнётся или попросту погибнет — от усталости и задёрганности.
Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь — и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.
Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов «правил» гласит: «Не выписывать компрометирующих сведений о командирах Совармии».
В самом деле: начни выписывать — и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котёл», в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). <…> Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошёл героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смёл всё, что было у нас в Крыму? И более того, оставив на короткое время осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, — одно дело, а воевать и войсками руководить — дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три (!) армии заплавали и перетонули в Керченском проливе.
Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии. <…>
Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны», обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности»: мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это всё весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.
Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.
Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться, Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить: слишком их много, и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души. Чего Вам от души и желаю.
Виктор АСТАФЬЕВ.
Красноярск
(Г. Вершинину)
[…] Что же касается неоднозначного отношения к роману, я и по письмам знаю: от отставного комиссарства и военных чинов — ругань, а от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами: «Слава богу, дожили до правды о войне!..»
Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны — Победа. Пусть и громадной, надсадной, огромной кровью давшаяся и с такими огромными потерями, что нам стесняются их оглашать до сих пор. Вероятно, 47 миллионов — самая правдивая и страшная цифра. Да и как иначе могло быть? Когда у лётчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400—600 самолётов, а советский герой Покрышкин — два, и тоже герой… Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские лётчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали — готовились к боям.
Три миллиона, вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году, и 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине, их, чтобы не кормить и не охранять, даже в плен не брали, и они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами…
Ох уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона, — осталось уже только трое, — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному. А вот если свести эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, тысяч, миллионов — получится уже более полная картина.
«Всю правду знает только народ», — сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков.
Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию — и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на него, на милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит — вести себя достойно на земле, и, может быть, Он простит нас и не отвернёт своего милосердного лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию.
Вот третья книга и будет о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и не восполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, — нам не выжить. […]
1995 г.
(Кожевникову)
Дорогой мой собрат по войне!
Увы, Ваше горькое письмо — не единственное на моём письменном столе. Их пачки, и в редакциях газет, и у меня на столе, и ничем я Вам помочь не могу, кроме как советом.
Соберите все свои документы в карман, всю переписку, наденьте все награды, напишите плакат: «Сограждане! Соотечественники! Я четырежды ранен на войне, но меня унижают — мне отказали в инвалидности! Я получаю пенсию 5,5 тысячи рублей. Помогите мне! Я помог вам своей кровью!» Этот плакат прибейте к палке и с утра пораньше, пока нет оцепления, встаньте с ним на центральной плошали Томска 9-го Мая, в День Победы.
Вас попробует застращать и даже скрутить милиция, не сдавайтесь, говорите, что всё снимается на плёнку — для кино. Требуйте, чтоб за Вами лично приехал председатель облисполкома или военком облвоенкомата. И пока они лично не приедут — не сходите с места.
Это Вам сразу же поможет. Через три дня, уверяю Вас, везде и всюду дадут ход Вашему пенсионному делу. Но будьте мужественны, как на фронте. Держитесь до конца!
Если же Вас начнут преследовать, оскорблять — дайте мне короткую телеграмму об этом, и я этим землякам-сибирякам такой устрою скандал, что иные из них полетят со своих тёплых мест.
Сделайте ещё один подвиг, сибиряк! Во имя таких же униженных и обиженных, во имя своей спокойной старости. Желаю Вам мужества!
Ваш В. Астафьев, инвалид войны, писатель, лауреат Государственных премий
Копию письма Кожевникова вместе с моим — в Томский облисполком. Копия письма остаётся у меня.
(С. Новиковой)
Дорогая Светлана Александровна!
Уже давно получил Вашу книжку, но прочесть её никак не удавалось: суета, болезни, слабеющее зрение и графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение.
Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, Вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник, как ещё одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и до се царит в нашем одряхлевшем обществе, одряхлевшем и грудью, и духовно, и нравственно. Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегает или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжков не читают и читать уже не будут, но через два-три поколения потребуется духовное воскресение, иначе России гибель, и тогда будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах. Кстати, солдатик, даже трижды раненный, как я, на Руси ещё реденько, но водится, а командиры, маршалы, и главные, и неглавные, давно вымерли, такова была их «лёгкая» жизнь, да ещё этот сатана, за что-то в наказание России посланный, выпил из них кровь, укоротил век.
Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтоб и издали я увидел командующего 1-м Украинским фронтом Конева, и однажды — во судьба! — совсем близко под городом Проскуровом видел и слышал Жукова. Лучше б мне его никогда не видеть и ещё лучше — не слышать. И с авиацией мне не везло. Я начинал на Брянском фронте, и первый самолёт сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего «лавочкина», упал он неподалёку от нашей кухни в весенний березняк, и как-то так неловко упал, что кишки лётчика, вывалившегося из кабины, растянуло по всей белой берёзе, ещё жидко окроплённой листом. И после я почему-то видел, как чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши и немецкие самолеты, так свято врали друг другу: «Вот опять херакнулся фриц!»
История с Горовцом не так хорошо выглядит, как в Вашей книге, он действительно сбил 9 самолётов, но не только Ю-873, но и других, и на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился, и к вечеру он был сбит и обвинён в том, что, упав в расположении врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности, и, когда на Курской дуге ставили памятник-бюст Горовцу, приехала одна мать, а отец сказал: «Они его продали, нехай они его и хоронять».
«Балладу о расстрелянном сердце» написал мой давний приятель Николай Панченко, он живет в Тарусе, под Москвой, почти уже ослеп. «Сталинград на Днепре» — документальную повесть — написал Сергей Сергеевич Смирнов, она печаталась в «Новом мире», а отдельного издания я и не видел.
О-ох как много мне хотелось бы Вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает, и я просто целую Ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце Ваше, столь вынесшее невзгод и выдержавшее такую работу.
Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой, и победителей наказывали. Как было не бояться сатане, восседающему на русском троне, объединения таких людей и умов, как Жуков, Новиков, Воронов, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившиеся из Европы и увидевшие, что живём мы не лучше, а хуже всех. Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженые, когда нельзя было развести огонь.
О-ох, мамочки мои, и ещё хотят, требуют, чтоб наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да всё забито, заглушено, и истреблено, и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в 30-х годах, чтоб он разом поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой и Россией своей, большой и обескровленной.
Почитайте книгу, которую я Вам посылаю, и увидите, каково-то было и рядовым. Моя Марья, комсомолка-доброволка, и я, Бог миловал, ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в партии не состоявший, хватили лиха через край. Баба моя из девятидетной рабочей семьи, маленькая, характером твёрдая, и все тяжести пали в основном на неё. Умерло у нас две дочери — одна — восьми месяцев, другая 39 лет, вырастили мы её детей, двух внуков, но всё остальное Вы узнаете из книжки. И простите за почерк, пишу из родной деревни, а Марья с машинкой в городе, я и печатать-то не умею.
Низко Вам кланяюсь. Ваш В. Астафьев.
Виктор Астафьев. Фото: Анатолий Белоногов
1973 г.
(И. Соколовой)
[…] У Вас, да и в любой вещи, где есть «я» - оно, это «я», ко многому обязывает, прежде всего к сдержанности, осторожности в обращении с этим самым «я» и, главное, необходимо изображать, а не пересказывать. У Вас поначалу семнадцатая артдивизия находилась на марше… Но это именно наша бригада, вооружённая гаубицами образца 1908 года системы Шнейдера, выплавляемыми на Тульском заводе (гаубицами, у которых для первого выстрела ствол накатывался руками и снаряд досылался в ствол банником), оказалась на острие атаки немцев. Сначала нас смяли наши отступающие в панике части и не дали нам как следует закопаться. Потом хлынули танки - мы продержались несколько часов, ибо у старушек-гаубиц стояли сибиряки, которых не так-то просто напугать, сшибить и раздавить. Конечно, в итоге нас разбили в прах, от бригады осталось полтора орудия - одно без колеса и что-то около трёхсот человек из двух с лишним тысяч. Но тем временем прорвавшиеся через нас танки встретила развернувшаяся в боевые порядки артиллерия и добила вся остальная наша дивизия. Контрудар не получился. Немцы были разбиты. Товарищ Трофименко стал генералом армии, получил ещё один орден, а мои однополчане давно запаханы и засеяны пшеницей под Ахтыркой…
Очень часто совпадали наши пути на войне: весь путь к Днепру почти совместный. Я был под Ахтыркой. Наша бригада оказалась той несчастной частью, которой иногда выпадала доля оказаться в момент удара на самом горячем месте и погибнуть, сдерживая этот удар. Ахтырку, по-моему, заняла 27-я армия и устремилась вперёд, оголив фланги. Немцы немедленно этим воспользовались и нанесли контрудар с двух сторон - от Богодухова и Краснокутска, чтобы отрезать армию, которую так безголово вёл генерал Трофименко вперёд.
Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.
Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме - не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины! […]
(Адресат не установлен)
[…] Вот до чего мы дожили, изолгались, одубели! И кто это всё охранял, глаза закрывал народу, стращал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. Вы на фронте, будучи генералом, кушали, конечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, что даже Ванька-взводный и тот норовил и жрать, и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и «генерал» на передовой, да не «из тех», и быстро с голоду загнётся или попросту погибнет - от усталости и задёрганности.
Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина - самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10! Это она сбросала наш народ, как солому, в огонь - и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и всё это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.
Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов «правил» гласит: «Не выписывать компрометирующих сведений о командирах Совармии».
В самом деле: начни выписывать - и обнаружится, что после разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили «Харьковский котёл», в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами (а их взяли целый пучок, как редиску красную из гряды вытащили). <…> Может, Вам рассказать, как товарищ Кирпонос, бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ростов и далее? Может, Вы не слышали о том, что Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошёл героический Сиваш и на глазах доблестного Черноморского флота смёл всё, что было у нас в Крыму? И более того, оставив на короткое время осаждённый Севастополь, «сбегал» под Керчь и «танковым кулаком», основу которого составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету, пусть и «Правду», где от первой до последней страницы возносил он Великого вождя, - одно дело, а воевать и войсками руководить - дело совсем иное, и дал ему так, что (две) три (!) армии заплавали и перетонули в Керченском проливе.
Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м под командованием товарища Жукова уничтожали 1-ю танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты 4-му Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу 1-го Украинского фронта, после Жукова попавшего под руководство Конева в совершенно расстроенном состоянии. <…>
Если Вы не совсем ослепли, посмотрите карты в хорошо отредактированной «Истории Отечественной войны», обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две, от силы в три синих. Только не говорите мне о моей «безграмотности»: мол, у немцев армии, корпусы, дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, которую всю зиму и весну били двумя фронтами, была численно больше наших двух фронтов, тем более Вы, как военный специалист, знаете, что во время боевых действий это всё весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит, немцы умели сокращать управленческий аппарат и «малым аппаратом», честно и умело работающими специалистами, управляли армиями без бардака, который нас преследовал до конца войны.
Чего только стоит одна наша связь?! Господи! До сих пор она мне снится в кошмарных снах.
Все мы уже стары, седы, больны. Скоро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора Богу молиться, Илья Григорьевич! Все наши грехи нам не замолить: слишком их много, и слишком они чудовищны, но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплёванные, униженные и оскорблённые души. Чего Вам от души и желаю.
Виктор АСТАФЬЕВ.
Красноярск
(Г. Вершинину)
[…] Что же касается неоднозначного отношения к роману, я и по письмам знаю: от отставного комиссарства и военных чинов - ругань, а от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами: «Слава богу, дожили до правды о войне!..»
Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны - Победа. Пусть и громадной, надсадной, огромной кровью давшаяся и с такими огромными потерями, что нам стесняются их оглашать до сих пор. Вероятно, 47 миллионов - самая правдивая и страшная цифра. Да и как иначе могло быть? Когда у лётчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400-600 самолётов, а советский герой Покрышкин - два, и тоже герой… Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские лётчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали - готовились к боям.
Три миллиона, вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году, и 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине, их, чтобы не кормить и не охранять, даже в плен не брали, и они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами…
Ох уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона, - осталось уже только трое, - собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, - даже один бой, один случай, переход - все помнили по-разному. А вот если свести эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, тысяч, миллионов - получится уже более полная картина.
«Всю правду знает только народ», - сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков.
Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию - и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на него, на милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит - вести себя достойно на земле, и, может быть, Он простит нас и не отвернёт своего милосердного лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию.
Вот третья книга и будет о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и не восполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, - нам не выжить. […]
1995 г.
(Кожевникову)
Дорогой мой собрат по войне!
Увы, Ваше горькое письмо - не единственное на моём письменном столе. Их пачки, и в редакциях газет, и у меня на столе, и ничем я Вам помочь не могу, кроме как советом.
Соберите все свои документы в карман, всю переписку, наденьте все награды, напишите плакат: «Сограждане! Соотечественники! Я четырежды ранен на войне, но меня унижают - мне отказали в инвалидности! Я получаю пенсию 5,5 тысячи рублей. Помогите мне! Я помог вам своей кровью!» Этот плакат прибейте к палке и с утра пораньше, пока нет оцепления, встаньте с ним на центральной плошали Томска 9-го Мая, в День Победы.
Вас попробует застращать и даже скрутить милиция, не сдавайтесь, говорите, что всё снимается на плёнку - для кино. Требуйте, чтоб за Вами лично приехал председатель облисполкома или военком облвоенкомата. И пока они лично не приедут - не сходите с места.
Это Вам сразу же поможет. Через три дня, уверяю Вас, везде и всюду дадут ход Вашему пенсионному делу. Но будьте мужественны, как на фронте. Держитесь до конца!
Если же Вас начнут преследовать, оскорблять - дайте мне короткую телеграмму об этом, и я этим землякам-сибирякам такой устрою скандал, что иные из них полетят со своих тёплых мест.
Сделайте ещё один подвиг, сибиряк! Во имя таких же униженных и обиженных, во имя своей спокойной старости. Желаю Вам мужества!
Ваш В. Астафьев, инвалид войны, писатель, лауреат Государственных премий
Копию письма Кожевникова вместе с моим - в Томский облисполком. Копия письма остаётся у меня.
(С. Новиковой)
Дорогая Светлана Александровна!
Уже давно получил Вашу книжку, но прочесть её никак не удавалось: суета, болезни, слабеющее зрение и графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение.
Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, Вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник, как ещё одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и до се царит в нашем одряхлевшем обществе, одряхлевшем и грудью, и духовно, и нравственно. Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегает или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжков не читают и читать уже не будут, но через два-три поколения потребуется духовное воскресение, иначе России гибель, и тогда будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах. Кстати, солдатик, даже трижды раненный, как я, на Руси ещё реденько, но водится, а командиры, маршалы, и главные, и неглавные, давно вымерли, такова была их «лёгкая» жизнь, да ещё этот сатана, за что-то в наказание России посланный, выпил из них кровь, укоротил век.
Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтоб и издали я увидел командующего 1-м Украинским фронтом Конева, и однажды - во судьба! - совсем близко под городом Проскуровом видел и слышал Жукова. Лучше б мне его никогда не видеть и ещё лучше - не слышать. И с авиацией мне не везло. Я начинал на Брянском фронте, и первый самолёт сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего «лавочкина», упал он неподалёку от нашей кухни в весенний березняк, и как-то так неловко упал, что кишки лётчика, вывалившегося из кабины, растянуло по всей белой берёзе, ещё жидко окроплённой листом. И после я почему-то видел, как чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши и немецкие самолеты, так свято врали друг другу: «Вот опять херакнулся фриц!»
История с Горовцом не так хорошо выглядит, как в Вашей книге, он действительно сбил 9 самолётов, но не только Ю-873, но и других, и на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился, и к вечеру он был сбит и обвинён в том, что, упав в расположении врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности, и, когда на Курской дуге ставили памятник-бюст Горовцу, приехала одна мать, а отец сказал: «Они его продали, нехай они его и хоронять».
«Балладу о расстрелянном сердце» написал мой давний приятель Николай Панченко, он живет в Тарусе, под Москвой, почти уже ослеп. «Сталинград на Днепре» - документальную повесть - написал Сергей Сергеевич Смирнов, она печаталась в «Новом мире», а отдельного издания я и не видел.
О-ох как много мне хотелось бы Вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает, и я просто целую Ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце Ваше, столь вынесшее невзгод и выдержавшее такую работу.
Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой, и победителей наказывали. Как было не бояться сатане, восседающему на русском троне, объединения таких людей и умов, как Жуков, Новиков, Воронов, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившиеся из Европы и увидевшие, что живём мы не лучше, а хуже всех. Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженые, когда нельзя было развести огонь.
О-ох, мамочки мои, и ещё хотят, требуют, чтоб наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да всё забито, заглушено, и истреблено, и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в 30-х годах, чтоб он разом поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой и Россией своей, большой и обескровленной.
Почитайте книгу, которую я Вам посылаю, и увидите, каково-то было и рядовым. Моя Марья, комсомолка-доброволка, и я, Бог миловал, ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в партии не состоявший, хватили лиха через край. Баба моя из девятидетной рабочей семьи, маленькая, характером твёрдая, и все тяжести пали в основном на неё. Умерло у нас две дочери - одна - восьми месяцев, другая 39 лет, вырастили мы её детей, двух внуков, но всё остальное Вы узнаете из книжки. И простите за почерк, пишу из родной деревни, а Марья с машинкой в городе, я и печатать-то не умею.
Низко Вам кланяюсь. Ваш В. Астафьев.
Письма Виктора Астафьева — о войне, правде о ней и цене Победы
Астафьев был против того, что наши люди должны гордиться победой. Он считал, что это не победа, а великий позор. Никогда потери в тылу, как в этой войне, не превышали потерь на фронте. Читаем не только цитату, которую в сетях выучили наизусть, а те несколько писем, которые были опубликованы уже после смерти писателя. Мы чтили Виктора Петровича при жизни. А красноярские депутаты, сволочи, чтоб им пусто было, за роман "Прокляты и убиты" устроили судилище над фронтовиком, удостоенным престижных премий за произведения, за талант, за правду. Обозвали писателя пятой колонной и не выделили ему денег на лечение. Это был 2000-й год. Денег было просто завались. Красноярские врачи помогли чем смогли, и выписали больного умирать домой. Такое вот скотское отношение. Я не знала этой позорной истории. Недавно прочитала. Астафьев - классик, гордость нашей литературы. Дети изучают его произведения на уроках. А какие-то чинуши свели его в могилу. Он очень сильно переживал. Такая вот забота. Кому нужно сегодня это чёртовое победобесие? А книги Астафьева мы читаем. И дети, и взрослые. Памятных мест астафьевских в городе много... Спи спокойно, великий земляк! Ты был достойным человеком и гражданином.
Алексей Тарасов, «Новая», Красноярск
От себя я напишу завтра или аккурат 9 мая, а пока скажу коротко, этот балаган с победобесием пора прекращать, предатели, под руководством предателей устраивают шабаш каждый год 9 мая.
Хорош рисоваться, мы просохатили всё, что отстояли деды, нам нечем гордиться, кроме своего предательства.