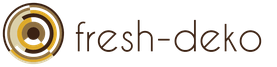Жанрово типологические особенности агиографии домонгольской руси. Агиографическая литература
И историко-церковные аспекты святости. Жития святых могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении , обожении и т. д. В историческом плане жития при соответствующей историко-филологической критике выступают как источник по истории церкви , равно как и по гражданской истории. В социально-культурном аспекте жития дают возможность реконструировать характер духовности , социальные параметры религиозной жизни, религиозно-культурные представления общества. Жития, наконец, составляют едва ли не самую обширную часть христианской литературы, со своими закономерностями развития, эволюцией структурных и содержательных параметров и т. д., и в этом плане являются предметом литературно-филологического рассмотрения.
Энциклопедичный YouTube
1 / 3
✪ Обезличивание как проявление ереси жидовствующих и способ построения глобальной антицеркви
✪ Лекция "Семья Рейснер и Восток". Лектор д.ф.н., профессор Рейснер Марина Львовна
✪ Αγιογραφια-εικόνα - δέηση-λεπτομέρειες- τελικό αποτέλεσμα-τοποθέτηση στο ναο
Субтитры
Структура
Изучение житий святых выступает как основа всех прочих типов исследований. Жития пишутся по определённым литературным канонам , характерным для разных христианских традиций. Например, в таком агиографическом жанре, как «похвала святому», соединяющем в себе характеристики жития и проповеди , выделяется достаточно чёткая композиционная структура (введение , основная часть и эпилог) и тематическая схема основной части (происхождение святого, рождение и воспитание, деяния и чудеса, праведная кончина, сравнение с другими подвижниками).
Агиографической литературе свойственны многочисленные стандартные мотивы: например, рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм и т. п. Подобные мотивы выделяются в агиографических произведениях разных типов и разных эпох. Так, в актах мучеников , начиная с древнейших образцов этого жанра, приводится обычно молитва мученика перед кончиной и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного , открывающегося подвижнику во время его страданий. Эти стандартные мотивы обусловлены не только ориентацией одних произведений на другие, но и христоцентричностью самого феномена мученичества: мученик повторяет победу Христа над смертью, свидетельствует о Христе и входит в Царство Небесное . Эта богословская канва мученичества естественно отражается и в структурных характеристиках мученических актов.
Стиль
Житие святого - это не столько описание его жизни (биография), сколько описание его пути к спасению. Поэтому набор стандартных мотивов отражает прежде всего не литературные приёмы построения биографии, а динамику спасения, того пути в Царство Небесное , который проложен данным святым. Житие абстрагирует эту схему спасения, и поэтому само описание жизни делается обобщённо-типическим. Сам способ описания пути к спасению может быть различным, и как раз в выборе этого способа более всего различаются восточная и западная агиографические традиции. Западные жития обычно написаны в динамической перспективе, автор как бы прослеживает из своей позиции, из земного бытия, по какой дороге прошёл святой от этого земного бытия к Царствию Небесному. Для восточной традиции более характерна обратная перспектива , перспектива святого, уже достигшего Небесного Царства и от вышних озирающего свой путь к нему. Эта перспектива способствует развитию витийственного, украшенного стиля житий, в которых риторическая насыщенность призвана соответствовать неумопостигаемой высоте взгляда из Царствия Небесного (таковы, например, жития Симеона Метафраста , а в русской традиции - Пахомия Серба и Епифания Премудрого). При этом особенности западной и восточной агиографической традиции очевидным образом соотносятся с характерными чертами западной и восточной иконографии святых: сюжетности западной иконографии, раскрывающей путь святых к Богу, противопоставлена статичность иконографии византийской, изображающей, прежде всего, святого в его прославленном, небесном состоянии. Таким образом, характер агиографической литературы непосредственно соотнесён со всей системой религиозных воззрений, различиями религиозно-мистического опыта и т. д. Агиография как дисциплина и изучает весь этот комплекс религиозных, культурных и собственно литературных явлений.
И историко-церковные аспекты святости. Жития святых могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении , обожении и т. д. В историческом плане жития при соответствующей историко-филологической критике выступают как источник по истории церкви , равно как и по гражданской истории. В социально-культурном аспекте жития дают возможность реконструировать характер духовности , социальные параметры религиозной жизни, религиозно-культурные представления общества. Жития, наконец, составляют едва ли не самую обширную часть христианской литературы , со своими закономерностями развития, эволюцией структурных и содержательных параметров и т. д., и в этом плане являются предметом литературно-филологического рассмотрения.
Структура
Изучение житий святых выступает как основа всех прочих типов исследований. Жития пишутся по определённым литературным канонам , характерным для разных христианских традиций. Например, в таком агиографическом жанре, как «похвала святому», соединяющем в себе характеристики жития и проповеди , выделяется достаточно чёткая композиционная структура (введение , основная часть и эпилог) и тематическая схема основной части (происхождение святого, рождение и воспитание, деяния и чудеса, праведная кончина, сравнение с другими подвижниками).
Агиографической литературе свойственны многочисленные стандартные мотивы: например, рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм и т. п. Подобные мотивы выделяются в агиографических произведениях разных типов и разных эпох. Так, в актах мучеников , начиная с древнейших образцов этого жанра, приводится обычно молитва мученика перед кончиной и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного , открывающегося подвижнику во время его страданий. Эти стандартные мотивы обусловлены не только ориентацией одних произведений на другие, но и христоцентричностью самого феномена мученичества: мученик повторяет победу Христа над смертью, свидетельствует о Христе и входит в Царство Небесное . Эта богословская канва мученичества естественно отражается и в структурных характеристиках мученических актов.
Стиль
Житие святого - это не столько описание его жизни (биография), сколько описание его пути к спасению. Поэтому набор стандартных мотивов отражает прежде всего не литературные приёмы построения биографии, а динамику спасения, того пути в Царство Небесное , который проложен данным святым. Житие абстрагирует эту схему спасения, и поэтому само описание жизни делается обобщённо-типическим. Сам способ описания пути к спасению может быть различным, и как раз в выборе этого способа более всего различаются восточная и западная агиографические традиции. Западные жития обычно написаны в динамической перспективе, автор как бы прослеживает из своей позиции, из земного бытия, по какой дороге прошёл святой от этого земного бытия к Царствию Небесному. Для восточной традиции более характерна обратная перспектива , перспектива святого, уже достигшего Небесного Царства и от вышних озирающего свой путь к нему. Эта перспектива способствует развитию витийственного, украшенного стиля житий, в которых риторическая насыщенность призвана соответствовать неумопостигаемой высоте взгляда из Царствия Небесного (таковы, например, жития Симеона Метафраста , а в русской традиции - Пахомия Серба и Епифания Премудрого). При этом особенности западной и восточной агиографической традиции очевидным образом соотносятся с характерными чертами западной и восточной иконографии святых: сюжетности западной иконографии, раскрывающей путь святых к Богу, противопоставлена статичность иконографии византийской, изображающей прежде всего святого в его прославленном, небесном состоянии. Таким образом, характер агиографической литературы непосредственно соотнесён со всей системой религиозных воззрений, различиями религиозно-мистического опыта и т. д. Агиография как дисциплина и изучает весь этот комплекс религиозных, культурных и собственно литературных явлений.
См. также
Напишите отзыв о статье "Агиография"
Литература
- Рудаков А. П. Очерки Византийской культуры по данным греческой агиографии / А. П. Рудаков; Предисл. Г. Л. Курбатова , Г. Е. Лебедевой ; Послесл. Г. Е. Лебедевой. - СПб. : Алетейя, 1997. - 304 с. - (Византийская библиотека. Исследования). - 2500 экз. - ISBN 5-89329-021-6 . (в пер.)
- Шастина Т. П. Лекция 3. Литература Киевской Руси. Тема 2. Основные типы агиографических сочинений // / Рецензенты: М. Н. Дарвин, Г. П. Козубовская. - г. Горно-Алтайск: РИО "Универ-Принт", 2003. - 6 с. - 100 экз.
- Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия Ростовского, кн. 1-12. М., 1991-1994.
|
||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Агиография
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.
Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.
В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.
То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.
На Русь агиография в сопровождении богослужебных книг проникает в южнославянских (болгарских и сербских) переводах из Византии вместе с принятием христианства в X в. Первыми сборниками житий были так называемые месяцесловы (Остромиров, Асеманов XI в., Архангельский XI-XII вв.) и минеи четьи (от греч. menaion -- месяц), то есть книги для чтения «по месяцам». Минеи четьи (или четьи-минеи) содержали огромный корпус житий святых и учительных «слов» Отцов Церкви, расположенных по месяцам и дням богослужебного года от сентября до августа и охватывавших едва ли не большую часть круга чтения Древней Руси. В месяцесловах располагались краткие жития в порядке годового круга по дням памяти святых. Месяцесловы совпадали по типу и составу с греческими Синаксарями, которые на Руси получили названия Прологов (переводные Синаксари начинались со вступления - «Пролога», название которого и было перенесено на всю книгу). Четьи-минеи читались дома, в келье, за монастырской трапезой. Краткие жития из Прологов -- за богослужением утрени на 6 песне канона .
Уже в XI в. появляются первые оригинальные жития русских святых: Чтение о св. Борисе и Глебе и житие Феодосия Печерского, составленные Нестором-летописцем, а также Сказание о Борисе и Глебе неизвестного автора. Примечательно, что первыми русскими канонизированными церковью святыми стали именно князья Борис и Глеб. Внимание их агиографов сосредоточено на решении проблемы свободы и необходимости с христианских позиций. Поставленные в условия, при которых они могут воспротивиться мучениям, Борис и Глеб сознательно этого не делают и отдают себя в руки мучителям. Их смерть не была смертью за веру -- князья, убиенные Святополком «Окаянным», пали жертвой феодальных княжеских усобиц. Таким образом, Русская церковь с первых дней своего существования выявляет новый чин святости, неизвестный прочему христианскому миру, -- страстотерпчество. Особое и общенациональное почитание страстотерпцев говорит о том, что русская церковь не делает различия между смертью за Христа (мученичеством) и жертвенным закланием в последовании Христу, непротивлением смерти (страстотерпчеством). По чину страстотерпцев прошла и одна из последних по времени канонизаций -- причисление на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 к лику святых императора Николая II и членов его семьи .
В XII-XIII вв. активно развивается агиография на Северо-востоке Руси: жития Леонтия, Исайи и Авраамия Ростовских, Игнатия, Петра, Никиты-столпника Переяславского, ВарлаамаХутынского, Михаила Тверского, Александра Невского. Эти жития писаны для богослужебного употребления и потому носят характер «памяти» о святом, выдержаны в стиле безыскусном, сухом и сжатом. Сам тип святости, привлекающий к себе внимание северо-восточных агиографов, отмечен умеренным, «мирным» и «тихим» подвигом. Он ориентирован на «срединный» путь аскезы древних иноков Палестины. Византийские и южнорусские, киевские, жития тяготеют к драматической святости отшельников Сирии и Египта с их суровой аскезой и напряженной духовной бранью. Такой тип «жесткой» святости отражен в Киево-печерском патерике XIII в.
Жанр патерика (от греч. paterikon -- отечник) вообще занимает особое место в агиографической письменности. Помимо житийного материала, в патериковые сборники включаются изречения святых отцов-подвижников. Сам же житийный материал здесь осмысляется несколько иначе, чем в обычных житиях. Если обычные жития стремятся показать образцовый жизненный путь подвижника, дать эталон подражания читателям-христианам, то патериковые сказания, или так называемые, патериковые новеллы, останавливают внимание на странном, необычном, сугубо индивидуальном в жизни и поступках святого и потому не всегда пригодном для подражания (бесовские искушения, «странности» и «чудачества» святых и т.д.) .
Расцвет русской агиографии приходится на XV в. Тогда же меняется и характер отечественной житийной литературы. Фактический, документальный материал отступает на второй план, и главное внимание обращается на его обработку. В житиях начинают появляться искусные литературные приемы, развивается целая система жестких правил. Через так называемое «второе южнославянское влияние», агиографов сербского и болгарского происхождения, на Русь проникает стиль византийского «плетения словес». Укреплению этого стиля способствует аскетико-богословского движение исихастов, наиболее ярким представителем которого был выдающийся византийский святой Григорий Палама (IV). Книжники исихастской традиции исходили из того, что слово неразрывно связано с тем лицом или предметом, которое оно обозначает. И потому назвать явление -- значит, насколько возможно, его познать, прикоснуться к его вечной, а в случае агиографии -- Божественной сущности. Отсюда проистекала риторическая «неуемность» «плетения словес» в агиографии, стремление подобрать целый ряд ярких синонимов, сравнений, торжественных словословий, дабы приблизиться к пониманию тайны героя жития. Прежняя краткая «память» о святом преображается в обширное хвалебное церковно-историческое слово. Личность агиографа, прежде скрывавшаяся, теперь выступает более или менее ясно. Нередко в житии дается краткая биография автора. Местом составления жития становятся уже не только города, но и отдаленные от культурных центров монастыри. И потому в житиях этой поры много ценного с исторической точки зрения бытового материала. Самыми известными книжниками эпохи стали Пахомий Логофет, оставивший 10 житий, 6 сказаний, 18 канонов и 4 похвальных слова святым, и Епифаний Премудрый -- автор житий Стефана Пермского и наиболее прославленного русского святого, основателя Св.-Троицкой Лавры преподобного Сергия Радонежского .
На протяжении долгого времени агиография существовала как анонимная словесность. Если же автор все-таки заявлял о себе, то ему полагалось подчеркивать всяческое свое «неразумие», указывая во вступлении, что он слишком ничтожен, чтобы описать жизнь отмеченного Богом человека. С одной стороны, взгляд агиографа на своего героя -- это взгляд обыкновенного человека на необыкновенную личность. С другой стороны, за составление жития мог браться человек книжный, сведущий в трудах предшественников, обладающий литературным даром и способный толковать Божественный Промысел путем аналогий, главным образом, из Священного Писания. Тем не менее, средневековая агиография не знает принципа безусловного почитания творческой индивидуальности книжника и его «авторской воли». Жития помногу раз переписывались, а в процессе переписки они могли серьезно правиться, редактироваться, обогащаться новыми вставками, поскольку самым ценным в житии видится не «рука книжника», а лик самого святого. Потому жития древних и средневековых святых вариативны, они существуют нередко в десятках и даже сотнях различных списков-редакций, существенно разнящихся между собой. Это сильно затрудняет работу критической агиографии по подготовке научных изданий житий, тем более что большинство из них дошло до нас лишь в позднейших и сильно измененных списках. Перед критической агиографией стоит задача либо реставрировать гипотетическую первичную редакцию, либо сводить все тексты воедино и публиковать их общим корпусом. Потому пока научные издания получили не более четверти древнерусских житий. Остальные в основном рассеяны в списках по десяткам государственных и монастырских собраний.
Подобно иконографии и церковному искусству в целом, агиография подчинена канону, строго заданному и закрепленному традицией своду правил, которыми определяются образцы жанра. Канон предписывает определенные словесные и композиционные трафареты в описании жизни святого, четкий жанровый этикет.
Этикетный канон жития складывается из предисловия и краткого послесловия агиографа, обрамляющих основное повествование, которое включает в себя несколько обязательных вех :
- 1. восхваление родины и/или родителей святого;
- 2. чудесное предвозвещение его появления на свет, проявление святости в раннем возрасте, отказ от баловства и озорных детских игр;
- 3. искушения;
- 4. решительный поворот на путь духовного спасения;
- 5. кончина и посмертные чудеса.
Заданность канона могла приводить к тому, что книжник порой компоновал житие русского святого по образцу жития одноименного ему святого греческого. Однако в таком регламенте структуры жития не следует усматривать шаблонность или «стеснение авторской индивидуальности». В средневековой словесности оригинальность и свобода не мыслятся вне трафарета, строго ограниченных формальных рамок, поскольку и сам облик святого непременно рисуется обобщенно. Подобно тому, как иконография деформирует внешность изображаемого человека, дабы выявить его духовную суть, агиография отказывается от житейской конкретики, а порой и «исторической достоверности» в пользу канонического трафарета.
В XVII в. с процессом постепенной секуляризации, «обмирщения» русской культуры начинает проявляться кризис канонической агиографии. В среде старообрядчества появляются немыслимые прежде автоагиографические произведения (составленное самим «агиографическим героем» Житие протопопа Аввакума) .
Следуя греческой традиции, в русской агиографии и агиологии, помимо мучеников, страстотерпцев и блаженных, утвердился также ряд иных чинов святости: преподобные - монахи; святители -- епископы; равноапостольные - монархи и князья, крестившие свои народы (князь Владимир) либо подготовлявшие их крещение (княгиня Ольга); священномученики -- мученики, пребывавшие в священническом или епископском сане; бессеребряники -- святые, особо прославившиеся своим бескорыстием (прежде всего, особо почитавшиеся на Руси римские лекари III в. Косьма и Дамиан); праведные -- святые из числа мирян и «белого», не монашествующего духовенства, не принявшие мученичества; благоверные -- благочестивые князья и монархи, предстатели за свой народ пред Богом и защитники веры.
В Древней Руси понятия «книжной» просвещенности и христианского правоверия не случайно отождествлялись: христианство – религия высокоразвитой письменности. С самого начала своего существования христианская церковь, исполняя завещание апостола Павла «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие» (Евр. 13:7), тщательно собирает и записывает сведения о жизни ее подвижников. Так возникает агиография (греч. агиос – святой, графо – пишу) – литература о жизни и деяниях святых. Святыми почитались христиане, трудами благочестия и пламенной молитвой особо угодившие Богу, удостоенные особой Божьей благодати. После смерти они становятся частью того Божественного Провидения, которое, по мысли средневекового человека, вершит судьбы истории.
«Святые человеки» молятся перед Богом за своих собратьев по вере, а те, со своей стороны, должны воздавать молитвенное чествование им. Жития их составлялись для того, чтобы, как пишет в своем «Житии Феодосия Печерского» Нестор, «приимьше писание и почитающе и, тако видяще мужа доблесть, въсхвалять Бога, и въгодника его прославляюще на прочие подвигы укрепляються» (взяв писание и прочитав его, все могли узнать о доблести мужа и восхвалить Бога, угодника его прославляя, и укрепить души свои для подвигов).
Аскетико-героическая жизнь святого изображается в житиях как школа духовного бытия, которая всем указывает путь к достижению Царства Божия и предостерегает о трудностях на этом пути. Герои житий воплощают высший нравственный идеал, деяния их предстают как манифест высокоморальной жизненной позиции. Идеализация агиографических героев призвана была утвердить внутреннюю мощь, величие и красоту христианского учения. Поэтизация духовного подвига, торжества духа над грешной плотью, нравственного максимализма в противостоянии злу определяет общую идейно-эстетическую направленность житийной литературы. Жизнь, подвиги и учение светочей веры, запечатленные в агиографических памятниках, входят в богатейшую сокровищницу мировой христианской культуры.
Русская Церковь воспитала в своих недрах множество святых подвижников, трудами благочестия и пламенной молитвой стяжавших славу небесных покровителей и защитников родной земли. Первые восточнославянские жития появляются вскоре после официального причисления к сонму православных святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (канонизированы в 1072 году) и преподобного Феодосия Печерского (канонизирован в 1108 году).
Складывались первые восточнославянские жития в тесной зависимости от наиболее древних образцов византийской агиографии. К тому времени восточноевропейская житийная литература уже имела многовековую традицию, выработала свои четкие жанровые формы и поэтико-стилистические средства. Древнерусские книжники обрели в ранневизантийских житиях высочайшие образцы духовно- религиозной героики, уже сформировавшийся идеал святости.
Первообразом по отношению всех образов святости в агиографии является образ Христа. Свои подвиги герои житий совершают «во имя Христово», а главное – «подобно Христу». Они стремятся делать свою жизнь по священному образцу в ежемгновенном сопереживании со страстями Учителя из Галилеи. Такая, по выражению М. Бахтина, «в Боге значительная жизнь» позволяет преодолеть им свое земное естество, перейти в ранг «земных ангелов»: их святость обозначает особую зону между миром небесным, исполненным добра, чистоты, нравственного совершенства, и миром земным, связанным с понятием греховности, неполноценности, несправедливости. То, что еще при жизни святые – «граждане» сфер небесных, показывает их чудотворение, способность преодолевать материальные законы бытия. Связывают они два мира даже после кончины; посмертные чудеса являются самым важным доказательством святости подвижника, самым веским аргументом при канонизации.
Могущество святости, проявленное в чудотворчестве героев житий, было призвано вызвать трепет, внушить страх, но не страх-испуг, но страх благоговейный, «страх Божий», то есть чувство ничтожности перед безмерно великим, могущественным, благим. Чаще всего чудотворение было проявлением неземного милосердия: чистые сердцем подвижники любви спасают оступившихся, исцеляют недужных, помогают страждущим. Чудесное и реальное описывалось в житиях с одинаковой степенью достоверности.
Агиография по самому своему существу литература церковная, выполняющая роль носительницы Церковного Предания. Составление, переписывание и перечитывание житий было неотъемлемой составной частью церковной жизни, богослужебной и аскетической практики. Церковно-служебное назначение житий обусловило формирование канонической, стандартной схемы, которой должны были придерживаться все агиографы. Она имеет трехчастную структуру и складывается из следующих элементов. Риторическое вступление от автора подводит читателя к самому предмету повествования, содержит уничижительную самохарактеристику составителя жития, его признание в своей неучености, литературной беспомощности и молитвенную просьбу к Богу «просветить». Условно «многогрешный» и «худоумный» агиограф уничижал себя, чтобы возвысить своего героя и избежать обвинения в гордыне. Основная часть начиналась со слова о родителях, которые, как правило, были «христолюбцы благочестивые», затем следовал рассказ о рождении младенца и посвящении его Богу. В рассказе о детстве героя подчеркивалось его отличие от сверстников, благочестие, прилежание в учебе. Далее изображался отмеченный героикой духовного подвижничества жизненный путь святого. Подобно тому как средневековый иконописец, подчеркивая величие святого, рисовал его выше деревьев и холмов, агиограф описывал жизнь своего героя с позиции известного удаления и, следуя установке на его идеализацию, опускал будничные подробности, детали частной жизни. Все внимание в житиях было сосредоточено на «торжественных» моментах жизни героя, том существенном, важном, что должно было окружить его ореолом святости. Цепь эпизодов из жизни святого могла быть связана не только хронологически, но и тематически. Постоянное сравнение агиографического героя с библейскими персонажами, сопровождение рассказа о его деяниях аналогиями из Священного Писания заставляет рассматривать его жизнь под знаком Вечности, как подготовку к вечному блаженству. Угодник Божий всегда знает о времени своей кончины и успевает дать последнее наставление своим ученикам и последователям. Приятие смерти святым – последний апофеоз его земной жизни, преддверие жизни вечной. После описания его торжественного величавого отшествия из жизни, обычно отмеченного чудесными явлениями в природе, следовал «плач», упоминание об обретении нетленных мощей и описание связанных с ними посмертных чудес.
Житие – это рассказ о жизни святого, но рассказ этот не равен простой биографии. В нем дается не образ, но образец, описывается не просто человеческая жизнь, но святое житие. В отличие от биографической повести, где важна связь героя со средой, рост характера, в житиях представала личность с самого рождения сформировавшаяся, имеющая уже вполне «готовую» сущность. Агиографический канон требовал «растворения человеческого лица в небесном прославленном лике», воплощения в герое всей совокупности идеальных качеств, которые должны были проявляться в идеальных деяниях. Агиограф стремился дать предельно обобщенное, отрешенное от преходящих и случайных обстоятельств земной жизни представление о герое. Составитель житий восходил от частного к общему, от внешнего к внутреннему, от временного к вечному, искал в биографическом материале не увлекательное, интересное, неповторимо индивидуальное, но прежде всего должное, священное и, если не находил, то, не задумываясь, включал в состав своего повествования фрагменты из других текстов, «заставлял» своего героя вести себя так, как положено вести себя этому разряду литературных героев. Это не было ни плагиатом, ни обманом и шло отнюдь не от бедности воображения: агиограф был уверен, что святой вести себя иначе не мог.
Главным средством постижения связи и смысла Земли и Неба, мира видимого и невидимого служил в агиографической литературе символический образ. Знаки и символы пронизывают повествовательную ткань каждого жития.
Этикетность русского средневекового мировоззрения предписывала изображать мир согласно определенным принципам и правилам, требовала выражать представления о должном, приличествующем, не изобретая новое, но по строго определенному «чину» комбинируя старое. Поэтому агиограф не стремился увлечь читателя неожиданностью содержания или поразить свежестью форм выражения, напротив, своеобразие биографического материала он старался свести к общему знаменателю. «Общее место», «бродячий» повествовательный штамп (исцеление, умножение пищи, предсказание исхода битв, искушение блудницей и т. д.), повторяющиеся типы поведения героя и трафаретность словесных формул – органический элемент жития как жанра. Регламентированность сюжетно-композиционной модели «праведного жития», трафаретность образов и ситуаций, стандартный набор речевых оборотов собственно и принято называть агиографическим каноном.
Не следует думать, однако, что составление житий сводилось к механическому подбору шаблонов и трафаретов. Это был творческий акт, но особого рода. Агиография – более искусство соединения «своего» и «чужого», нежели искусство индивидуальной творческой инициативы и мерилом мастерства агиографа, критерием художественности было тщательное соблюдение агиографического канона, способность следовать традиции.
Повторяемость эпизодов, стереотипность словесных формул способствовали созданию у читателей и слушателей житий особой нравственной атмосферы, особого рода христианско-православного мирочувствования. Веками формировавшиеся каноны образно- выразительных средств и сюжетных мотивов к тому же были художественно емки и эффективны, могли с наибольшей яркостью и очевидностью проявить вечные и неизменные свойства и силы человеческой души. Поэтизируя истинно достойное в жизни, являя примеры подвижничества, самоотречения от благ во имя высшей правды и, наоборот, осуждая порочное, обличая злодейское, житийная литература всегда вызывала у читателя раздумья, оценочную реакцию, позволяющие ему выработать свое отношение к действительности, усвоить лучшие качества человеческой нравственности. Не случайно, что на Руси жития были самым читаемым литературным жанром, считались авторитетнейшим источником человеческой мудрости.
Киевская Русь была крайне заинтересована в канонизации и прославлении своих национальных святых, поскольку, приняв христианство от Византии, она вынуждена была отстаивать свою духовную, идеологическую и правовую самостоятельность. Византия всячески стремилась препятствовать движению провинциальных церквей к независимости и ревниво относилась к созданию местных культов, поскольку считалось, что это чревато отступлением от догматических основ христианского вероучения. Канонизационная практика была ограничена жесткими правилами и строго централизованна: официально святой мог почитаться только после согласия константинопольского патриарха. Патриархи, как и киевские митрополиты-греки, всячески сдерживали религиозный национализм новокрещенного народа. Сам факт канонизации Бориса и Глеба, а чуть позже Феодосия Печерского, свидетельствовал о признании Византией военной и политической мощи русского государства, высокого призвания Русской Церкви.
Национальное своеобразие древнерусской житийной литературы во многом определяется значительно большей связью с живой действительностью, нежели это допускалось сложившимся агиографическим каноном.
В отличие от византийских образцов древнерусская агиография, особенно раннего периода, тяготела как по содержанию, так и по стилистическому оформлению к жанру летописного рассказа. Сюжетные ситуации в ранних русских житиях насыщены национально- историческими и бытовыми реалиями, связанными с христианизацией Руси, монастырским строительством, княжескими усобицами, освоением новых земель. Конфликты в них зачастую носили «мирской» характер, определялись не столько борьбой с иноверцами, сколько с самоуправством и корыстолюбием князей, отрицательными явлениями в быту.
Герои древнерусских житий зачастую изображались не только аскетами, но и людьми, обладающими вполне мирскими добродетелями, например рачительной хозяйственностью, дипломатическими и воинскими талантами. В обрисовке их образов было много реальных подробностей, живых черт.
Обрамление конкретным и реальным безликих «общих мест», называемые точные даты, исторические имена, ссылки на слова очевидцев приближали повествование к конкретной биографии, а рано обнаружившийся интерес древнерусских агиографов к Древнейшим произведением русской агиографии, дошедшим до нас, является анонимное «Сказание о Борисе и Глебе».
Рассказ о мученической смерти князей Бориса и Глеба, убитых их братом Святополком Владимировичем, помещен в «Повести временных лет» под 1015 годом. На его основе в конце XI века было создано анонимное «Сказание и страсть и похвала святому мученику Бориса и Глеба». Действие в нем по сравнению с летописной повестью более драматизировано, значительно усилена общая панегирически-лирическая тональность. Древнейший список памятника дошел до нас в составе Успенского сборника конца XII – начала XIII века.
У князя Владимира Святославича было двенадцать сыновей от разных жён. Третьим по старшинству был Святополк. Мать Святополка, монахиня, была расстрижена и взята в жены Ярополком, братом Владимира. Владимир убил Ярополка и овладел его женою, когда она была беременна. Он усыновил Святополка, но не любил его. А Борис и Глеб были сыновьями Владимира и его жены-болгарки. Своих детей Владимир посадил по разным землям на княжение: Святополка - в Пинске, Бориса - в Ростове, Глеба - в Муроме.
Когда дни Владимира приблизились к концу, на Русь двинулись печенеги. Князь послал против них Бориса Тот выступил в поход, но врага не встретил. Когда Борис возвращался обратно, вестник рассказал ему о смерти отца и о том, что Святополк попытался скрыть его смерть. Слушая эту повесть, Борис заплакал. Он понял, что Святополк хочет захватить власть и убить его, но решил не сопротивляться. Действительно, Святополк коварно завладел киевским престолом. Но, несмотря на уговоры дружины, Борис не захотел прогнать брата с княжения.
Тем временем Святополк подкупил киевлян и написал Борису ласковое письмо. Но его слова были лживыми. На самом деле он хотел убить всех наследников своего отца. И начал он с того, что приказал дружине, состоявшей из вышгородских мужей во главе с Путыней, убить Бориса.
Борис же раскинул стан на реке Альте. Вечером он молился у себя в шатре, думая о близкой смерти. Проснувшись, он велел священнику служить заутреню. Убийцы, подосланные Святополком, подошли к шатру Бориса и услышали слова святых молитв. А Борис, заслышав зловещий шёпот возле шатра, понял, что это убийцы. Священник и слуга Бориса, видя печаль своего господина, горевали о нем.
Вдруг Борис увидел убийц с обнажённым оружием в руках. Злодеи устремились к князю и пронзили его копьями. А слуга Бориса прикрыл своим телом господина. Этот слуга был родом венгр по имени Георгий. Убийцы поразили и его. Раненный ими, Георгий выскочил из шатра. Злодеи хотели нанести князю, который был ещё жив, новые удары. Но Борис стал просить, чтобы ему позволили помолиться Богу. После молитвы же обратился князь к своим убийцам со словами прощения и сказал: «Братья, приступивши, заканчивайте повеленное вам». Так умер Борис в 24 день июля. Убили и многих его слуг, в том числе Георгия. Ему отрубили голову, чтобы снять с шеи гривну.
Бориса обернули в шатер и повезли на телеге. Когда ехали лесом, святой князь приподнял голову. И два варяга пронзили его ещё раз мечом в сердце. Тело Бориса положили в Вышгороде и погребли у церкви Святого Василия.
После этого Святополк задумал новое злодеяние. Он послал Глебу письмо, в котором писал, что отец, Владимир, тяжко болен и зовёт Глеба.
Юный князь отправился в Киев. Когда он доехал до Волги, то слегка повредил ногу. Он остановился недалеко от Смоленска, на реке Смядыни, в ладье. Весть о смерти Владимира тем временем дошла до Ярослава (ещё одного из двенадцати сыновей Владимира Святославича), который тогда княжил в Новгороде. Ярослав послал Глебу предупреждение, чтобы он не ездил в Киев: отец умер, а брат Борис убит. И, когда Глеб плакал об отце и брате, перед ним внезапно появились злые слуги Святополка, посланные им на убийство.
Святой князь Глеб плыл тогда в ладье по реке Смядыни. Убийцы находились в другой ладье, они начали грести к князю, а Глеб думал, что они хотят его приветствовать. Но злодеи стали перескакивать в лодку Глеба с обнажёнными мечами в руках. Князь стал умолять, чтобы они не губили его юную жизнь. Но слуги Святополка были неумолимы. Тогда Глеб начал молиться Богу об отце, братьях и даже о своём убийце, Святополке. После этого повар Глебов, Торчин, зарезал своего господина. И взошёл Глеб на небеса, и встретился там с любимым братом. Случилось же это 5 сентября.
Убийцы же вернулись к Святополку и рассказали ему о выполненном повелении. Злой князь обрадовался.
Тело Глеба бросили в пустынном месте меж двух колод. Проходившие мимо этого места купцы, охотники, пастухи видели там огненный столп, горящие свечи, слышали ангельское пение. Но никто не догадался поискать там тело святого.
А Ярослав двинулся со своим войском на братоубийцу Святополка, чтобы отомстить за братьев. Ярославу сопутствовали победы. Придя на реку Альту, он стал на том месте, где был убит святой Борис, и помолился Богу об окончательной победе над злодеем.
Целый день длилась сеча на Альте. К вечеру Ярослав одолел, а Святополк бежал. Его обуяло безумие. Святополк так ослабел, что его несли на носилках. Он приказывал бежать, даже когда погоня прекратилась. Так на носилках пронесли его через Польскую землю. В пустынном месте между Чехией и Польшей он скончался. Его могила сохранилась, и от неё исходит ужасный смрад.
С тех пор в Русской земле прекратились усобицы. Великим князем стал Ярослав. Он нашёл тело Глеба и похоронил его в Вышгороде, рядом с братом. Тело Глеба оказалось нетленным.
От мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба стали исходить многие чудеса: слепые прозревали, хромые ходили, горбатые выпрямлялись. А на тех местах, где братья были убиты, созданы церкви во их имя.
У исследователей этого памятника есть все основания утверждать, что «Сказание» подчинено задаче укрепления феодального миропорядка, прославления феодальной верности», «культ Бориса и Глеба... утверждал обязательность «покорения» младших князей старшим». Однако такое традиционное выделение в качестве основы идейного содержания «Сказания» политической идеи родового старшинства сужает идейный и духовно-нравственный смысл подвига страстотерпцев, сводит его значение к политическому уроку. Подвиг Бориса и Глеба прежде всего утверждал общехристианские идеалы и лишь затем, как следствие, идеи государственного строительства того времени, политические идеалы. Борис и Глеб вовсе не невольные жертвы политических интриг, но жертвы «вольные». В своем добровольном приятии мученического венца они руководствовались евангельскими заповедями о смирении, о суетности этого мира, о любви к Господу («все претерпети любве ради»), но отнюдь не исключительно политическим принципом послушания старшему в роду. Да и сама идея родового старшинства вовсе не требовала безусловного повиновения старшему князю, если он совершал преступления. В этом случае сопротивление ему было нравственно оправдано, что и показано в «Сказании» на примере Ярослава. Его мщение однозначно трактуется как действие праведное. То, что Борис отказывается от незаконных притязаний на власть, есть поступок идеального князя, но еще не подвижничество святого. Подвиг его в ином – в решении не сопротивляться Святополку, но, уподобляясь Христу, добровольно пойти на смерть. Борис в своей молитве говорит именно об этом: «Господи Иисусе Христе! Иже симъ образъмъ явися на земли, изволивы волею пригвоздитися на кръсте и приимъ страсть грехъ ради нашихъ, сподоби и мя прияти страсть» (Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явившийся на землю и собственною волею давший пригвоздить себя к кресту и принять страдание за грехи наши, сподобь и меня так принять страдание). Борис предполагает о нависшей угрозе его жизни со стороны брата: «Нъ тъ, мьмю, о суетии мирьскыихъ поучаеться и о биении моемь помышляеть» (Но тот, чувствую я, кто о мирской суете печется, убийство мое замышляет), однако Бог велит слушать старших, и Борис решает быть послушным Святополку. Его размышления о том, что ему делать, как себя вести – размышления глубоко верующего человека: сопоставляя ценности переходящие и вечные, он приходит к выводу, что «слава и княжения мира сего... все мимоходить и хуже паучины» (слава и княжения в этом мире… все преходяще и непрочно, как паутина).
Как и Христос, Борис и Глеб утверждали своей мученической смертью абсолютный нравственный идеал в обстановке, которая исключала торжество идеально-нравственных начал в поведении человека. А вот то, что воплощенные в поведении братьев христианские заповеди братолюбия, смирения, послушания закладывали морально-политические основы государственного единства Киевской Руси (признание за великим киевским князем безусловного авторитета старшинства), делает их религиозный подвиг одновременно и подвигом общественно-политического содержания. Раскрытие религиозной сути подвига страстотерпцев органически переплетается с трактовкой его политического смысла в посмертной похвале им. Автор просит святых о представительстве перед Богом за Русскую землю, выражая самые насущные чаяния своей эпохи, а именно желание мирной жизни, прекращение братоубийства: «Вама бо дана бысть благодать, да молитва за ны, вамо бо далъ есть богъ о насъ молящася и ходатая къ богу за ны. Темъ же прибегаемь къ вама, и съ сльзами припадающе, молимъся, да не предеть на ны нога гърдыня и рука грешьнича не погубить насъ, и вьсяка пагуба да не наидеть на ны, гладъ и озълобление отъ насъ далече отъженета и всего меча браньна избавита насъ, и усобиьныя брани чюжа сътворита и вьсего греха и нападения заступита насъ, уповающихъ къ вама» (Вам дана благодать, молитесь за нас, вас ведь бог поставил перед собой заступниками и ходатаями за нас. Потому и прибегаем к вам, и припадая со слезами, молимся, да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука нечестивых да не погубит нас, и избавьте нас от неприятельского меча и междоусобных раздоров, и от всякой беды и нападения защитите нас, на вас уповающих). Парадоксально, но кроткие, не поднявшие оружие, чтоб защитить даже свою жизнь, святые Борис и Глеб становятся грозными защитниками всей Русской земли от воинских напастей: «Вы намъ оружие земля Русьскыя забрала и утвьржение, и меча обоюду остра, има же дьерзость поганьскую низълагаемъ…» (Вы наше оружие, земли руской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низвергаем…).
В полном соответствии с агиографическим каноном, содержательную структуру «Сказания» определяет противоборство двух, полярно разведенных в нравственном отношении, миров. Миру света и добра, который олицетворен в образах Бориса и Глеба, противостоит мир тьмы и зла – Святополк и исполнители его воли. Святополк предстает эталоном агиографического злодея. Его мать была «чърницею, грекыни сущу» (монахиней, гречанкой), когда Ярополк Святославич взял ее в жены, прельстившись красотой. Владимир, убив своего брата, получил ее уже «не праздьную сущю» (беременной). Святополк, таким образом, «бысць отъ дъвою отьцю и брату сущю» (сын двух отцов-братьев). Этот генеалогический экскурс в начале «Сказания» не только объясняет безбожное поведение убийцы, но и как бы освобождает Владимира от ответственности за греховные склонности своего пасынка. Судьба Святополка предрешена, он «обречен» на совершение злодеяний еще до своего рождения, ибо «от греховьнаго бо корени зол плод бываеть». Князь знает о тяготеющим над ним проклятии, о том, что с праведниками на том свете ему не быть («с правьдьныими не напишюся»), и потому не колеблется пролить кровь братьев: «азъ къ болезни язву приложихъ, приложю къ безаконию убо безаконие» (я к болезни добавил новую язву, добавлю к беззаконию беззаконие).
«Сказание» глубоко лирично: изображение действий героев, их размышлений неразделимо связано с изображением «осциллограммы» жизни их сердца – от его «сокрушения» до «вознесения». Герои «Сказания» постоянно находятся в чрезвычайно взволнованном состоянии. Каждый не просто идет к своей цели, но страстно желает добиться ее: Святополк «на убийство горяща», Борис стремится «вся престрадати любове ради», Ярослав – отмстить, «не тьрпя сего зълаго убийства». Повышенная эмоциональность приводит героев к ошибкам: радость встречи мешает Глебу распознать убийц, страх настолько глубоко проникает в сердце Святополка, что он видит преследователей там, где их нет. Эмоциональность Бориса так велика, что он одновременно испытывает прямо противоположные чувства: «плакашеся съкрушенъмь сердцем, а душею радость ною гласъ испущааше». Такое внимание автора к «жизни сердца» своих героев не случайно: отличительной чертой русского православия изначально была укорененность христианского вероучения более в сердце, чем в разуме.
Святые в «Сказании» не похожи на мучеников за веру раннехристианской поры, которые всегда изображались гордо бросавшими вызов силам зла и твердыми духом в свои последние минуты. Анонимный автор не боится показать живые человеческие слабости своих героев, делая их подвиг ближе и понятнее читателю.
В житиях общим местом было отмечать телесную красоту святых, особенно молодых, рано погибших, мучеников. («Телеса мученьчьская… красима», – провозглашает в своем «Слове о всех святых» Иоанн Златоуст.) Красота Бориса и Глеба отмечается на протяжении всего «Сказания». Борис, например, перед смертью «помышляаше о красоте… телесе своего», окружающие его жалеют, в том числе и за то, что «красота тела твоего увядаеть». После смерти тело святого не просто осталось нетленно, оно чудесным образом «светло и красьно и целе и благувеню имуще». Автор подробно и торжественно описывает это явное свидетельство славы небесной своего героя. Вместе с тем описание внешности Бориса в заключительной части «Сказания» не соответствует традиционному облику христианского мученика с обязательно присущими ему чертами аскетизма, возвышенной духовности, глубокой внутренней веры. Его облик скорее напоминает доброго молодца из народной лирической песни: «Телъмь бяше красьнь, высокъ, лицьмь круглъмь, плечи велице, тънъкъ въ чресла, очима доброаама, веселъ лицъмъ… крепъкъ телъмь…».
Стиль «Сказания» характеризует обилие выдержек из Псалтыри, Паремийника, частое удвоенное и утроенное сопоставление героев с библейскими персонажами, нагромождение синонимических выражений, отражающих либо экспрессивное состояние героев («сльзами горкыми и частыимь въздыхашемь и стонаниемь многым»), либо нравственно-этическую оценку происходящего («оканьный прьклятыи Святопълкъ съветьникы всему злу и началникы всей неправьде»).
Введение
агиография древнерусский литература
Агиография (от гр. [греч] бгйпт «святой» и [греч] гсбцщ «пишу»), научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости. Агиографические памятники могут изучаться с богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении, «обожении» и т.д. В историческом плане жития при соответствующей критике выступают как первоклассный источник по истории Церкви, равно как и по гражданской истории. Филологическое изучение житий предполагает исследование их поэтики. При этом важно отметить, что рассмотрение жития в данном аспекте не может быть полным без исторических и богословских комментариев.
Агиографическая (житийная) литература долгое время была недостаточно изучена, поэтому до сих пор нет научных изданий многих текстов, в современной медиевистике практически нет обобщающих работ по изучению жития как такового, поэтому существует некоторые проблемы в методологии исследования.
В данной работе представляется актуальным многоуровневый подход к изучению агиографических памятников. Жития будут рассматриваться в богословском, историческом и литературоведческом аспектах.
Агиография в системе жанров древнерусской литературы
Прежде чем рассматривать агиографию как отдельный жанр, следует остановиться на выявлении особенностей процесса жанрообразования в древнерусской литературе в целом. Так как жанры древнерусской литературы, в отличие от литературы нового времени, не равноправны, а составляют иерархическую своеобразную систему, то они выступают во взаимодействие и поддерживают существование друг друга. Как отмечает Д.С. Лихачев, «Литературные жанры Древней Руси имеют очень существенные отличия от жанров нового времени: их существование в большей степени, чем в новое время, обусловлено их применением в практической жизни. Они возникают не только как разновидности литературного творчества, но и как определенные явления древнерусского уклада, обихода, была в самом широком смысле слова».
Таким образом, в литературе Древней Руси прослеживается «жанровая система», в которой жанры отличны от современной литературы, во-первых, своей практической целью, во-вторых, функциональной значимостью. Так, жития, поучения, проповеди использовались в церковном обиходе, летописи - в дипломатических отношениях, хожения служили практическим целям паломничества и т.д.
Следует отметить, что жанровая специфика древнерусской литературы определяется во многом исходя из особенностей миросозерцания древнерусского средневекового общества, по своей природе она более консервативна, так как ориентирована на каноны, утверждаемые на церковных соборах. Внутри этой системы жанры располагались в определенной иерархической последовательности: Священное Писание, творения отцов церкви, жития, которые в проложной форме относились к богослужебной литературе, а в минейной к четьей. В связи с данной спецификой житий, на изучение агиографических памятников следует обратить особое внимание.
Агиография - один из важнейших жанров в системе средневековой христианской литературы, содержащий повествование о жизни и подвигах людей, признанных церковью святыми. Согласно Краткому словарю агиографических терминов, житие следует признавать не столько биографией святого, сколько описанием «его пути к спасению, типа его святости». В литературной энциклопедии житие рассматривается как «один из основных эпических жанров церковной словесности, расцвет которого пришелся на средние века. Объект изображения жития - подвиг веры, совершаемый историческим лицом или группой лиц (мучеников веры, церковных или государственных деятелей). Чаще всего подвигом веры становится вся жизнь святого, иногда в житии описывается лишь та ее часть, которая и составляет подвиг веры, или объектом изображения оказывается лишь один поступок».
Так как все жития имеют в своем основании христианский контекст, то нам представляется актуальным многоуровневый подход к их изучению. В данной работе жития будут рассматриваться в богословском, историческом, литературоведческом аспектах.