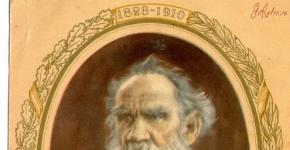Спасители Отечества Минин и Пожарский: кто это и какие подвиги совершили. Как Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский Русь спасали? Козьма минин и дмитрию пожарскому
Минин и Пожарский. Всего лишь несколько лет довелось этим людям бороться бок о бок. С тех пор их имена стали в сознании русских людей неразделимы. Но много ли мы знаем о них - спасителях Отечества? В замечательном фильме «Барышня-крестьянка» (по мотивам повести Пушкина), Берестов-старший в прекрасном исполнении Василия Ланового возмущенно говорит, о том, что жалок народ, не знающий хорошо свою историю и своих спасителей. Минин и Пожарский - и все, даже имен их не все помнят.
Они не оставили после себя ни дневников, ни писем, ни воспоминаний.. Даже реконструкция внешних событий их жизни наталкивается на непреодолимые препятствия. Никто не может сказать точную дату рождения Минина.
Никто не может обрисовать его черты и приметы. О нижегородском старосте документы упоминают впервые в тот момент, когда он приступил к сбору казны на народное ополчение. Но до этого он прожил целую жизнь. Кузьма стоял на низших ступенях социальной лестницы. Пожарский происходил из княжеского рода. Биографию его мы знаем лучше. Но и в ней остается слишком много пробелов.

Редкие упоминания о военных успехах Пожарского - вот и все, чем располагает историк, Время и герои - такова извечная проблема жанра исторической биографии. Там, где у автора мало сведений о главных героях, биографическое повествование уступает место исследованию времени. (В разных источниках, даже отчество Минина пишется по разному, где-то его отца называют Захарием, другие Миной. Полное имя, указанное в Википедии - Кузьма Минич Захарьев-Сухорукий. (прозвище Сухорук или Сухорукий указывает, что видимо было у него что-то с рукой). Я в основном привожу биографии, что написал в своей книге историк - профессор Руслан Григорьевич Скрынников .)
Предки Кузьмы Минина происходили из Балахны - небольшого поволжского городка в окрестностях Нижнего Новгорода. В России в то время фамилии едва лишь входили в обиход и еще оставались уделом избранных, принадлежавших к верхам общества. Простонародью заменой фамилии служило отчество. Деда Кузьмы звали Анкудином, отца - Миной Анкудиновым. Самого же Кузьму величали всю жизнь Мининым, а под конец уважительно - Кузьмой Миничем. В конце царствования Грозного Мина Анкудинов числился одним из совладельцев соляной шахты (трубы) «Каменка». Промысел в Балахне требовал больших затрат и трудов. К концу жизни Мина имел пай в нескольких трубах, затем дело перешло старшим сыновьям Федору и Ивану Мининым.

Кузьма Минин не получил доли в соляных промыслах, и ему пришлось искать свой путь в жизни. В юности он не раз сопровождал отца в его поездках в Нижний Новгород, где близко познакомился с торговым делом. После раздела имущества с братьями Кузьма получил свою долю наследства и перебрался в уездный центр. Здесь он купил себе двор, завел лавку и занялся мясной торговлей.
Кузьме Минину пришлось приложить много усилий, прежде чем он обзавелся прочными связями в нижегородском округе. Женился он, по-видимому, уже после переезда в Нижний Новгород. Суженой его стала Татьяна Семенова из посадской семьи. Никто не знает, скольких детей родила Кузьме его жена. Выжил из всех один лишь сын Нефед. Семья Мининых жила подобно сотням других нижегородцев.

Соратник Минина Дмитрий Пожарский имел княжеский титул и длинную родословную, но не принадлежал к аристократическим слоям общества. «Родов дряхлеющих обломок» - эти слова как нельзя лучше подходили к истории семьи Пожарских. Предки Дмитрия Пожарского были владельцами Стародубского удельного княжества, располагавшегося на Клязьме и Лухе. В годы опричнины Иван Грозный сослал на поселение в Казанский край сотню княжеских семей. Опале подверглись Ярославские, Ростовские и Стародубские княжата. В казанской ссылке побывали пять князей Пожарских со своими семьями. Среди них был и Федор Иванович с женой и детьми. Семья лишилась разом всего. Настанет время, и Дмитрий Пожарский будет оправдывать неудачную службу отца и деда ссылкой на опричную грозу. «Мои родители, - отметит он, - были много лет в государеве опале». В действительности опала на Пожарских была кратковременной.
Вскоре царю Ивану пришлось признать неудачу своей опричной затеи и вернуть в Москву ссыльнопоселенцев. По его приказу казна стала возвращать им вотчины либо наделяла их примерно равноценными землями. По возвращении из Казани в Москву Федор Пожарский вновь оказался на службе и участвовал в последних кампаниях Ливонской войны в скромном чине дворянского головы. До воеводского чина он так и не дослужился. Перед кончиной Федор принял пострижение в Троице-Сергиевом монастыре. Жена его, княгиня Мавра, пережила супруга на тридцать три года. Федор Пожарский женил своего старшего сына Михаила на Марии Берсеневой-Беклемишевой. В ноябре 1578 года в семье Михаила и Марии родился сын Дмитрий, будущий знаменитый воевода. В лице княжича Дмитрия соединились два опальных рода. Пожарские пострадали от Грозного, Берсеневы - от его отца Василия III.
Отец умер, когда Дмитрию едва исполнилось девять лет. Княжич рос и воспитывался вместе со старшей сестрой Дарьей и братом Василием, который был на шесть лет моложе его. Детские годы провел в родовом гнезде в Мугрееве.

Дмитрию Пожарскому минуло двенадцать лет, когда в Угличе погиб восьмилетний князь Дмитрий Угличский, младший сын Ивана Грозного. Как известно, именно это событие дало начало Смутному времени. О гибели младшего сына Грозного говорили и в семье нижегородского посадского человека Кузьмы Минина, и в семье князя Пожарского. Но Дмитрий Пожарский не мог предвидеть того, что ему еще придется столкнуться с двойником угличского князя на поле брани.
Наибольшее влияние на формирование личности Дмитрия Михайловича оказала мать. В течение всей своей долгой жизни она делила с сыном его заботы и радости. Характером и умом Мария, видимо, пошла в своего деда - Ивана Берсеня. Она сама была высокообразованной женщиной и всем детям своим дала блестящее, по тому времени, образование, что было тогда редким явлением. После долгих хлопот она добилась того, что Поместный приказ закрепил за наследником Дмитрием часть отцовского поместья. Княжич был старшим в мужском колене, и на нем сосредоточились надежды семьи. В девять лет княжич Дмитрий вступил во владение мещевским и серпейским поместьями за Угрой. Его совладельцами стали мать, сестра и младший брат. Когда пришло время, Мария Пожарская женила сына. На Руси взрослели рано и браки заключали в раннем возрасте. Женой княжича Дмитрия стала девица Прасковья Варфоломеевна..
Князь Дмитрий Пожарский был вызван на дворянский смотр в 1593 году. Первые годы его службы ничем не примечательны, если не считать того, что он стал стряпчим. Куда бы ни шел государь, в Боярскую ли думу, в поход, в церковь или к обеду, его повсюду сопровождали стряпчие. По торжественным дням они несли скипетр и другие знаки власти. В военных походах они служили оруженосцами. Пять лет провел Пожарский при дворе царя Федора Ивановича. Царь давно отстранился от дел, и его именем правил Борис Годунов, брат царицы Ирины.. В январе 1598 года царь Федор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая Московским государством на протяжении трехсот лет Избрание Бориса Годунова на царство стало первым крупным политическим событием, в котором Пожарский принял участие. Из стряпчих Пожарского перевели в стольники. Годунов оказал князю большую честь. Дмитрий Пожарский попал в круг лиц, составлявших цвет столичной знати. Мария Пожарская имела безупречную репутацию, и Борис пригласил ее стать «верховой боярыней» при любимой дочери Ксении.
О царевиче Дмитрии Угличском забыли вскоре после того, как прах его был предан земле. Но едва царь Федор умер и бояре стали оспаривать друг у друга корону, в народе пронесся слух о чудесном спасении законного наследника из династии Грозного. Подобно прочим дворянам, Пожарский был озадачен вестью о появлении на границе «законного государя», назвавшегося сыном Грозного. Тем не менее он без колебаний отправился на войну, чтобы защитить власть Годунова, занявшего трон в силу земского избрания. Война стала важной вехой в жизни Пожарского. Среди испытаний военного времени окончательно сформировались такие черты его характера, как решительность, редкое хладнокровие и непоколебимая верность воинскому долгу.

Столкновения на литовском рубеже круто изменили ход жизни Дмитрия Пожарского. В боях с отрядами самозванца Пожарский получил боевое крещение. Ратная служба с ее стихией опасности и риска пришлась ему по душе, и он не жалел сил, выполняя поручения воевод. Князь Дмитрий стойко переносил невзгоды зимней кампании. На всю жизнь запомнил он свой путь в заснеженных полях, стычки с гусарами, долгие вечера у костра, стужу землянок. Глядя на бывалых воинов, Пожарский учился постигать основы ратного искусства. Но пока ни он сам, ни его сотоварищи даже не догадывались, какое славное будущее ждет его впереди.

Монумент Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.
13 апреля 1605 года Борис скоропостижно умер в своем кремлевском дворце. Находившийся при особе царя Я. Маржерет засвидетельствовал, что причиной смерти был апоплексический удар. Таким образом, в могилу царя свел давний недуг. Незадолго до кончины Годунов решил вверить командование армией любимому воеводе П. Ф. Басманову, отличившемуся в первой кампании против самозванца. Молодой и не слишком знатный воевода призван был сыграть роль спасителя династии. Последующие события показали, что Борис допустил роковой просчет.
Эхо войны прокатилось по всей стране. В Нижнем Новгороде Кузьма Минин продолжал торговать в своей лавке. Но теперь ему чаще приходилось иметь дело со сборщиками податей. Война требовала денег, и казна обложила посадское население новыми поборами.
Войско самозванца напоминало многоголовую гидру. На месте отрубленных голов у нее тотчас вырастали новые. Настал страшный день, когда Лжедмитрий вошел в Москву. Не обошлось конечно без предательства со стороны части бояр.
Нижегородскому посадскому человеку Кузьме Минину не довелось видеть Отрепьева. Подобно другим жителям Нижнего, он был поражен сначала вестями о воцарении «Дмитрия», а затем тайными пересудами о его самозванстве. Князь Дмитрий Пожарский не только видел Лжедмитрия, но и общался с ним во дворце. На торжественных приемах в честь иноземных послов и гостей стольник Пожарский выполнял почетные поручения. При дворе знали, что в присутствии иноземцев князь Дмитрий не уронит своего достоинства.

Князь Пожарский на памятнике 1000 -летие Росии.
Ну а потом, как известно из истории, объявился самозванец Лжедмитрий и началось самое тяжелое для Руси -смутное время.
Один самозванец сменился другим, затем настало время Семибоярщины, Русь истекала кровью, люди тысячами мерли от голода.
Князь Пожарский, в то время зарайский воевода, не признал решения Московских бояр призвать на российский трон сына польского короля королевича Владислава. Не признали решения Семибоярщины и нижегородцы.
Бедствия Смутного времени причинили огромный ущерб городским центрам России. Нижнего Новгорода разорение коснулось в меньшей степени, чем других городов. Нижний Новгород обладал превосходной системой обороны. Лишь несколько русских городов имели каменные крепости, по мощности равные Нижегородскому кремлю.
Мысль о подвиге во имя спасения отечества давно волновала Минина. Но, как человек трезвый, Кузьма привык сообразовывать замыслы с наличными средствами. В его голове вновь и вновь звучали слова, как бы услышанные им сквозь сон: «Если старейшие (дворяне и воеводы) не возьмутся за дело, то его возьмут на себя юные (молодые тяглые люди), и тогда начинание их во благо обратится и в доброе совершение придет!»
Избрание в земские старосты Кузьма воспринял как зов судьбы. Нижегородские воеводы и приказные не знали, на что решиться. Не они, а посадский староста Минин выступил с инициативой организации нового ополчения. Вокруг Кузьмы немедленно объединились все, Сбор средств начался с добровольных пожертвований. Земский староста подал пример всем остальным. Нижегородцы несли на площадь к съезжей избе кто что мог.

Песков М.И. «Воззвание к нижегородцам гражданина Минина в 1611 году», (1861)
В Нижний потянулись обозы с продовольствием. Их выслали крестьяне и прочий уездный люд. Богатые монастыри должны были внести деньги в фонд ополчения наряду с дворцовыми крестьянами. Взявшись за организацию войска, посадские люди долго ломали голову над тем, кому доверить командование.
Князь Пожарский в это время находился на лечение (после ранения в битве под Москвой) в своем селе Мугрееве, недалеко от Нижнего. Сюда, по указанию Минина явились к нему послы с предложением принять начальство над нижегородским ополчением, поднявшимся для спасения Москвы; со своей стороны Пожарский потребовал, чтобы при ополчении выборным от посадских человеком был Минин.
.
Савинский В. Е. «Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского» (1882)
План Пожарского состоял в том, чтобы возможно скорее собрать отовсюду военные силы и не мешкая отправиться с ратью на помощь к Москве. Осуществление плана, однако, натолкнулось на неожиданные трудности. Возможности Нижнего Новгорода оказались быстро исчерпаны. Минину и Пожарскому пришлось обратиться за поддержкой к ближним и дальним городам и волостям
Став во главе ополчения, Пожарский в лице своем вмещал всю верхнюю власть над русской землею и писался "у ратных и земских дел по избранию всех чинов людей московского государства";

М. И. Скотти. «Минин и Пожарский» (1850). Красное знамя с иконой, которое несёт князь, исторически достоверно.
Минину было поручено заведование казной ополчения. С званием "выборного человека", простой нижегородец стал рядом с князем Пожарским, а после, под Москвой и в Москве, и с князем Трубецким, во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства. Принимая участие во всех делах правительственных, Минин, главным образом, ведал казну и обеспечение ратных людей необходимыми запасами и припасами и денежным жалованьем, с чем и справился успешно, несмотря на трудности сборов в разоренной смутой стране. Под Москвой, в битве с Ходкевичем, Минин показал и военную доблесть, решив бой смелым ударом выбранного им самим отряда.
Царь Михаил Романов пожаловал Минина думным дворянством и землей в Нижегородском уезде.
Вскоре после этого - до мая 1616 г. - Минин умер. Погребен он в Нижнем, в нижнем этаже Спасо-Преображенского собора, где в его память устроен придел во имя Косьмы и Дамиана.

Гробница Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском Соборе кремля. Возведена Л. В. Далем в 1874 году
Правительство со вниманием относилось ко вдове и сыну Мининым (дальнейшего потомства у него не было).
Князь Дмитрий скончался 20 апреля 1642 года. По обычаю века умирающий принял схиму. Погребли его в родовой усыпальнице Пожарских в суздальском Спасо-Евфимиеве монастыре. Так закончился жизненный путь Дмитрия Пожарского, друга и сподвижника Кузьмы Минина.
Памятный крест, установленный 1 ноября 2008 года над могилами рода Пожарских в Спасо-Евфимиевом монастыре (Суздаль)

Восстановленная гробница князя Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре (Суздаль)
Немного вещей Пожарского хранят музеи. Среди них прямоугольный стяг, сшитый из красного шелка, с библейскими символами в центре и золотыми узорами по краям, да две сабли - одна парадная, а другая боевая. Парадная сабля с ножнами в каменьях напоминает о том времени, когда ее владелец прозябал на придворной службе у Романовых. Сильно сточенный, потемневший от времени клинок служит символом другой поры. С этим оружием Пожарский не разлучался в те годы, когда вел народное ополчение к Москве. Шелковый стяг относится к тому же времени. То был победный стяг, взвившийся над Кремлем после изгнания оттуда иноземных завоевателей.
Народ по достоинству оценил их подвиг. Имена Минина и Пожарского навеки стали символом верного служения Отчизне.

Википедия,
фото и материалы интернета
В 1610 г. тяжелые времена для России не закончились. Начавшие открытую интервенцию польские войска взяли Смоленск после 20 месяцев осады. Шведы, приведенные Скопиным-Шуйским, изменили и, двинувшись на север, захватили Новгород. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, бояре схватили В. Шуйского и заставили его постричься в монахи. Вскоре, в сентябре 1610 г., он был выдан полякам.
В России началась Семибоярщина. Правители тайно подписали с королем Польши Сигизмундом 3-м соглашение, в котором обязались призвать его сына Владислава на правление, после чего открыли ворота Москвы полякам. Победой над врагом Россия обязана подвигу Минина и Пожарского, который помнят и сегодня. Минин и Пожарский смогли поднять народ на борьбу, сплотить его, и только это позволило избавиться от захватчиков.
Из биографии Минина известно, что род его был из городка Балханы на Волге. Отец, Мина Анкундинов, занимался соляным промыслом, а сам Кузьма был посадским человеком. В боях за Москву он проявил величайшую храбрость.
Дмитрий Михайлович Пожарский родился в 1578 г. Именно он по совету Минина, который занимался сбором средств для ополчения, был поставлен первым воеводой. Стольник Пожарский вполне успешно боролся с шайками Тушинского вора в период властвования Шуйского, не просил милости у польского короля, не совершал предательства.
Второе ополчение Минина и Пожарского выступило в Москву из Ярославля 6 августа (по новому стилю) 1612 г. и к 30 августа заняло позиции в районе Арбатских ворот. При этом народное ополчение Минина и Пожарского было отделено от ранее стоявшего под Москвой первого ополчения, состоявшего по большей части из бывших тушинцев» и казаков. Первое сражение с войсками польского гетмана Яна-Кароля произошло 1 сентября. Бой был тяжелым и кровопролитным. Однако первое ополчение заняло выжидательную позицию, на помощь Пожарскому на исходе дня пришли только пять конных сотен, внезапный удар которых вынудил поляков отступить.
Решающее сражение (гетманский бой) произошло 3 сентября. Натиск войск гетмана Ходкевича сдерживали воины Пожарского. Не выдержав натиска, через пять часов они вынуждены были отступить. Собрав оставшиеся силы, Кузьма Минин предпринял ночную атаку. Большинство участвовавших в ней воинов погибли, Минин был ранен, но этот подвиг воодушевил остальных. Враги наконец были отброшены. Поляки отступили по направлению к Можайску. Это поражение было единственным в карьере гетмана Ходкевича.
После этого войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского продолжили осаду стоявшего в Москве гарнизона. Зная о том, что осажденные терпят голод, Пожарский предложил им сдаться в обмен на сохранение жизней. Осажденные отказались. Но голод вынудил их позже начать переговоры. 1 ноября 1612 г. во время переговоров казаками был атакован Китай-город. Сдав его практически без боя, поляки заперлись в Кремле. Номинальных правителей Руси (от имени польского короля) выпустили из Кремля. Те, опасаясь расправы, немедленно покинули Москву. Среди бояр находился с матерью и
Минин (Сухорук) Кузьма Захарович (третья четверть XVI века-1616)
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642)
русские общественные деятели
Несмотря на то, что К. Минин и Д. Пожарский действовали вместе лишь несколько лет, их имена неразделимо связаны между собой. Они вышли на историческую авансцену в один из самых трагических периодов русской истории, когда вражеские нашествия, междоусобицы, эпидемии, неурожаи разорили русскую землю и превратили ее в легкую добычу для врагов. В течение двух лет Москва была занята иноземными завоевателями. В Западной Европе считали, что Россия никогда не обретет былого могущества. Однако возникшее в глубине страны народное движение спасло русскую государственность. «Смутное время» было преодолено, и подняли народ на борьбу «гражданин Минин и князь Пожарский» , как было написано на поставленном в их честь монументе.
Ни Минин, ни Пожарский не оставили после себя ни дневников, ни писем. Известны лишь их подписи под некоторыми документами. Первое упоминание о Минине относится лишь к тому времени, когда начался сбор средств на народное ополчение. Тем не менее историки установили, что он происходил из старинного торгового рода, представители которого издавна занимались солеварением. Они жили в Балахне - небольшом городке в окрестностях Нижнего Новгорода. Там на небольшой глубине под землей находились слои, в которых содержался природный солевой раствор. Его поднимали через колодцы, выпаривали, а получавшуюся соль продавали.
Промысел оказался настолько прибыльным, что предок Минина смог купить себе двор и торговое место в Нижнем Новгороде. Здесь он занялся не менее прибыльным делом - местной торговлей.
Любопытно, что одна из солевых скважин находилась в совместном владении предков Минина и Пожарского. Вот так две семьи оказались связанными на протяжении нескольких поколений.
Кузьма Минин продолжил дело своего отца. После раздела имущества с братьями он завел себе лавку и начал собственную торговлю. По-видимому, ему везло, поскольку уже через несколько лет он поставил себе хороший дом и развел вокруг него яблоневый сад. Вскоре после этого Минин женился на дочери своего соседа, Татьяне Семеновой. Никто не смог установить, сколько у них было детей. Достоверно известно лишь то, что наследником Минина был его старший сын, Нефед. Видимо, Минин пользовался репутацией добросовестного и порядочного человека, поскольку на протяжении многих лет являлся посадским старостой.
Дмитрий Пожарский был отпрыском древнего княжеского рода. Его предки были владельцами Стародубского удельного княжества, земли которого располагались на реках Клязьме и Лухе.
Однако уже в начале XVI века род Пожарских постепенно обеднел. Дед Дмитрия Федор Иванович Немой служил при дворе Ивана Грозного, но в годы опричнины попал в опалу и был выслан в только что завоеванный казанский край. Все его земли были конфискованы, и для прокормления семьи он получил во владение несколько крестьянских дворов в слободе Свияжской. Правда, вскоре опала была снята, и его вернули в Москву. Но конфискованные земли так и не возвратили.

Федору пришлось довольствоваться скромным чином дворянского головы. Чтобы укрепить свое пошатнувшееся положение, он прибег к испытанному способу: выгодно женил своего старшего сына. Михаил Пожарский стал мужем богатой княжны Марии Берсеневой-Беклемишевой. За ней дали хорошее приданое: обширные земли и крупную сумму деньгами.
Сразу после свадьбы молодые поселились в родовом селе Пожарских Мугрееве. Там в ноябре 1578 года и родился их первенец Дмитрий. Его дед по матери был широко образованным человеком. Известно, что Иван Берсенев был близким другом известного писателя и гуманиста М. Грека.
Мать Дмитрия, Мария Пожарская, была не только грамотной, но и достаточно образованной женщиной. Поскольку ее муж умер, когда Дмитрию еще не исполнилось девяти дет, она сама воспитывала сына. Вместе с ним Мария отправилась в Москву и после долгих хлопот добилась того, что Поместный приказ выдал Дмитрию грамоту, подтверждавшую его старшинство в роде. Она давала право на владение обширными родовыми землями. Когда Дмитрию исполнилось пятнадцать лет, мать женила его на двенадцатилетней девице Прасковье Варфоломеевне. Ее фамилия в документах не отражена и осталась неизвестной. Известно, что у Дмитрия Пожарского было несколько детей.
В 1593 году он поступил на государственную службу. Вначале выполнял обязанности стряпчего - одного из сопровождающих царя. Пожарский «состоял при платье» - должен был подавать или принимать различные предметы царского туалета, а в ночное время - охранять царскую спальню.

Сыновья знатных бояр носили этот чин недолго. Но Дмитрию не повезло. Ему было за двадцать, а он все еще оставался стряпчим. Только после коронации Бориса Годунова положение Пожарского при дворе изменилось. Он был назначен стольником и таким образом попал в круг лиц, составлявших верхушку московской знати.
Возможно, своим повышением он был обязан матери, которая на протяжении многих лет была «верховой боярыней», то есть воспитательницей царских детей. Она руководила обучением дочери Годунова Ксении.
Когда Дмитрий Пожарский был пожалован чином стольника, круг его обязанностей расширился. Стольников назначали помощниками воевод, посылали с дипломатическими поручениями в разные государства, отправляли в полки вручать награды от имени царя или передавать важнейшие приказы. Они были обязаны присутствовать и на приемах иностранных послов, где держали в руках блюда с кушаньями и предлагали их знатнейшим гостям.
Мы не знаем, как служил Пожарский. Известно лишь, что у него, видимо, были определенные военные способности. Когда в Литве появился Самозванец, князь получил приказ отправиться на литовскую границу.

Удача вначале не благоприятствовала русской армии. В боях на литовской границе и в дальнейших сражениях Пожарский постепенно становился закаленным воином, но его военная карьера оборвалась, потому что он получил ранение и был принужден отправиться в свое имение Мугреево на излечение.
Пока Пожарский восстанавливал силы, войска интервентов вступили на русскую землю, разгромили русские отряды и заняли Москву. Этому способствовала и неожиданная смерть Бориса Годунова, на смену которому пришел коронованный боярами царь Василий Шуйский. Но его венчание на царство не смогло ничего изменить. Войска Самозванца вошли в Кремль, и на русский престол взошел Лжедмитрий I.

В отличие от московских бояр, русский народ упорно сопротивлялся захватчикам. Вдохновителем сопротивления выступила и церковь в лице престарелого патриарха Гермогена. Именно он призвал народ к борьбе, и было создано первое земское ополчение. Однако его попытки освободить Москву от интервентов не увенчались успехом.
Осенью 1611 года посадский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин призвал к созыву нового ополчения. Минин рассказал, что на протяжении нескольких дней ему являлся во сне Сергий Радонежский, призывавший его выступить с призывом к согражданам.
В сентябре 1611 года Минин был выбран в земские старосты. Собрав в земской избе всех посадских старост, он обратился к ним с призывом начать сбор средств: со всех хозяев города собирали «пятую деньгу» - одну пятую часть состояния.

Постепенно на призыв Минина откликнулись жители окружавших Нижний Новгород земель. Военной стороной движения стал руководить князь Дмитрий Пожарский, получивший чин воеводы. Ко времени начала похода в феврале 1612 года к ополчению присоединились многие русские города и земли: Арзамас, Вязьма, Дорогобуж, Казань, Коломна. В состав ополчения вливались ратные люди и обозы с вооружением из многих областей страны.
В середине февраля 1612 года ополченцы направились в Ярославль. Там были сформированы руководящие органы движения - «Совет всея земли» и временные приказы.

Из Ярославля земское войско двинулось к Троице-Сергиевой лавре, где было получено благословение патриарха, а затем направилось к Москве. В это время Пожарский узнал, что к столице движется польское войско гетмана Ходкевича. Поэтому он призвал ополченцев не терять времени и как можно скорее добраться до столицы.

Им удалось опередить поляков всего на несколько дней. Но этого оказалось достаточно, чтобы не допустить их соединения с отрядом, засевшим в Кремле. После сражения около Донского монастыря Ходкевич решил, что силы ополченцев тают, и бросился их преследовать. Он не подозревал, что попал в придуманную Мининым ловушку.

На другой стороне Москвы-реки поляков ожидали готовые к бою отряды донских казаков. Они сразу же ринулись в бой и опрокинули боевые порядки поляков. За это время Минин вместе с дворянской дружиной переправился вслед за поляками через реку и ударил им в тыл. Среди поляков началась паника. Ходкевич предпочел бросить артиллерию, провиант, обозы и начал спешно отступать из русской столицы.
Как только сидевший в Кремле польский гарнизон узнал о случившемся, он капитулировал, не вступая в сражение. Русское войско с развернутыми знаменами проследовало по Арбату и в окружении толпы вышло на Красную площадь. Через Спасские ворота войска вошли в Кремль. Москва и вся русская земля праздновала победу.

Почти сразу же в Москве начал работать Земский собор. В начале 1613 года на его заседании царем был избран первый представитель новой династии - Михаил Романов. На Соборном уложении среди многих подписей есть и автограф Пожарского. После коронации царь пожаловал ему чин боярина, а Минину - чин думного дворянина.
Но война для Пожарского на этом не закончилась. После кратковременной передышки он был назначен командующим русским войском, выступившим против польского гетмана Лисовского. Минин же был назначен воеводой в Казань. Правда, прослужил он недолго. В 1616 году Минин умер от неизвестной болезни.
Пожарский же продолжал воевать с поляками, руководил обороной Калуги, затем его дружина совершила поход к Можайску, чтобы выручить осажденную там русскую армию. После полного разгрома польской интервенции Пожарский присутствовал при заключении Деулинского перемирия, а затем был назначен воеводой в Нижний Новгород. Там он прослужил до начала 1632 года, до того времени, когда вместе с боярином М. Шейным был послан на освобождение Смоленска от поляков.

Князь Дмитрий мог торжествовать: его заслуги перед отечеством наконец получили официальное признание. Но, как часто бывает, это случилось слишком поздно. В 53 года Пожарский был уже больным человеком, его одолевали приступы «черной немочи». Поэтому он отклонил предложение царя вновь возглавить русское войско. Его преемником стал один из сподвижников Пожарского молодой воевода Артемий Измайлов. А Пожарский остался служить в Москве. Царь поручил ему сперва Ямской, а затем Разбойный приказ. В обязанность князя входило совершение суда и расправы за наиболее серьезные преступления: убийства, грабежи, насилия. Затем Пожарский стал начальником московского Судного приказа.
В Москве у него был соответствующий его должности роскошный двор. Чтобы оставить о себе память, Пожарский выстроил несколько церквей. Так, в Китай-городе на его деньги был построен Казанский собор.
В 57 лет Пожарский овдовел, и сам патриарх отпевал княгиню в церкви на Лубянке. По окончании траура Дмитрий женился вторично на боярыне Феодоре Андреевне Голицыной, породнившись таким образом с одним из знатнейших русских родов. Правда, детей во втором браке у Пожарского не было. Но от первого брака осталось три сына и две дочери. Известно, что старшая дочь Ксения незадолго до смерти отца вышла замуж за князя В. Куракина, предка петровского сподвижника.
Предвосхищая свою смерть, по обычаю Пожарский принял постриг в Спасо-Евфимьевском монастыре, находившемся в Суздале. Там его вскоре и похоронили.

Но память о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского надолго сохранилась в людских сердцах. В начале XIX века на Красной площади им был поставлен памятник, созданный известным скульптором И. Мартосом на народные пожертвования.
История второго ополчения в эпоху русской Смуты начала XVII века представляется явлением совершенно исключительным как в русской, так и мировой истории. Достаточно вспомнить обстоятельства его образования, чтобы согласиться с этим. Ополчение собралось на восьмой год Смуты в стране, дотла разоренной и обессиленной бесконечной гражданской распрей, в тот момент, когда, казалось, уже невозможно было найти никакой объединяющей идеи. И именно тогда, когда среди национальной элиты не осталось ни одного авторитетного лица, когда не только отдельные личности, но целые слои общества показали свою неспособность овладеть ситуацией, начинается движение снизу - города и земства пересылаются и договариваются между собой; не бояре, дворяне или казаки, а простые посадские люди берутся за спасение Отечества. "Черная кость", нижегородский купец Кузьма Минин вдруг оказывается в центре событий. Именно он, вслед за патриархом Гермогеном, высказывает простую и понятную каждому русскому идею о спасении веры и православных святынь. И вокруг этой идеи начинаются кристаллизоваться все патриотические силы. В разоренной стране он находит деньги, оружие, провиант и таким образом подводит под все предприятие прочный экономический фундамент.
А когда ополчение уже формируется и возникает нужда в военном вожде, на кого обращается взор земских людей? На князя Пожарского! - представителя захудалого и небогатого рода, никогда не игравшего в русской истории значительной роли. Почему же такое предпочтение? Быть может, Пожарский был отмечен какими-нибудь личными достоинствами? Да, отмечен - правда, всего одним, но немаловажным - он был честный служака, никогда не кривил душой и всегда был верен долгу. Во всем остальном он совершенно ординарная личность - не трибун, не блещет способностями и даже полководец довольно посредственный. И все же земские люди не ошиблись в своем выборе - Пожарский, подобно Минину, не гнушаясь каждодневной черновой работы, стал служить земскому ополчению так же верно и честно, как прежде служил Годунову, Дмитрию или Шуйскому. Несмотря на полученную им диктаторскую власть, в его поступках нет никакой личной интриги, никакого
выпячивания своего "я", никакого стремления тем или иным способом закрепить свое исключительное положение. Эта скромность, быть может, есть самая поразительная черта в вождях второго ополчения. Минин и Пожарский собрали ратных людей, освободили от поляков столицу, созвали Земский собор, положивший конец Смуте, дали взрасти новой государственности и, сделав свое дело, отступили в сторону, отдав власть другим. Конечно, они получили награды, но не слишком большие. Им даровали чины и звания, но не очень высокие. Они скромно стушевались в толпе знатных бояр и князей, явившихся вокруг нового царя и окруживших его плотным кольцом. (Точно так же - заметим в скобках - повело себя и выдвинувшее их сословие - сыграв свою роль, оно тихо сошло со сцены). Ничем особым современники не воздали Минину и Пожарскому, да, наверно, и не могли воздать. Но тем большей была их посмертная слава у последующих поколений, для которых сами имена их стали символом скромного, неброского, самоотверженного патриотизма, такого патриотизма, который в России всегда умели ценить и отличать.
КУЗЬМА МИНИН И ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 г. в семье князя Михаила Федоровича Пожарского. Предками Пожарских были удельные князья Стародубские (младшая ветвь Владимиро-Суздальских князей), но им мало чего перепало от их прежнего величия. С течением времени небольшая Стародубская волость оказалась поделенной на множество маленьких вотчин между многочисленными представителями обособившихся и обедневших семей, так что, несмотря на свое происхождение от Рюрика и Юрия Долгорукого, Пожарские числились в ряду захудалых фамилий и даже не попали в Разрядные книги. Отец Дмитрия умер, когда ему было всего девять лет. Мать - Мария Федоровна, урожденная Берсенева-Беклемишева - переехала вскоре после этого в Москву, где у Пожарских был свой дом на Сретенке. С 1593 г. князь Дмитрий начал службу при государевом дворе царя Федора Ивановича. Поначалу он был "стряпчим с платьем", в обязанности которого входило под присмотром постельничего подавать туалетные принадлежности при облачении царя или принимать одежду с прочими вещами, когда царь раздевается. В те же годы, еще в очень молодых летах, он женился. В начале царствования Бориса Годунова князя Пожарского перевели в стольники. Он получил поместье под Москвой и затем был отправлен из столицы в армию на литовский рубеж.
После смерти Годунова Пожарский присягнул царевичу Дмитрию. В продолжение всего его короткого царствования он оставался в тени. Только при следующем царе - Василии Шуйском - Пожарского назначили воеводой, и он получил под начало конный отряд. Верность его в боях с тушинцами вскоре была замечена. За исправную службу царь пожаловал ему в Суздальском уезде село Нижний Ландех с двадцатью деревнями. В жалованной грамоте между прочим говорилось: "Князь Дмитрий Михайлович, будучи в Москве в осаде, против врагов стоял крепко и мужественно, и к царю Василию и к Московскому государству многую службу и дородство показал, голод и во всем оскудение и всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на какую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо всякие шатости". В 1610 г. царь назначил Пожарского воеводой в Зарайск. Прибыв в эту крепость, он узнал о низложении Шуйского заговорщиками во главе с Захарием Ляпуновым и поневоле вместе со всем городом целовал крест польскому королевичу Владиславу.
Но вскоре прошел слух, что московские бояре во всем предались полякам и делают все по их указке, что король Сигизмунд сына своего в Россию не отсылает, а хочет сам царствовать над Русью, двинулся на русские пределы со своей ратью и осадил Смоленск. Тогда по всем русским городам стало подниматься волнение и возмущение. Повсюду говорили, что пора вставать за Отечество и православную веру. Общие настроения выразил рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, который писал в своих воззваниях: "Встанем крепко, примем оружие Божие и щит веры, подвигнем всю землю к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами московского государства учиним совет: кому быть на московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на московское государство, крестивши его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему государю, Владиславу Жигимонтовичу, целуем крест и будем ему холопами, а не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российской земли стоять и биться. У нас одна дума: или веру православную нашу очистить или всем до одного помереть".
В скором времени между Пожарским и Прокопием Ляпуновым установилась крепкая связь. В 1611 г. Пожарский из Зарайска даже ездил выручать Ляпунова, осажденного в Пронске московским войском и запорожскими казаками. Затем он отбил московского воеводу Сунбулова, который ночью попытался захватить Зарайск и уже овладел посадами. После победы, оставив крепость на помощников, Пожарский тайком отправился в захваченную поляками Москву, где начал подготовлять народное восстание. Оно началось стихийно 19 марта 1611 г. Зная, что к столице направились большие силы, прослышав о продвижении Ляпунова из Рязани, князя Василия Мосальского из Мурома, Андрея Просовецкого из Суздаля, Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого из Тулы и Калуги, ополченцев из Галича, Ярославля и Нижнего Новгорода, москвичи не стали дожидаться освободителей, а сами взялись за дреколье. Схватка завязалась в торговых рядах Китай-города и быстро распространилась по Москве. На улицах вырастали завалы, закипели кровавые бои на Никитинской улице, на Арбате и Кулишках, на Тверской, на Знаменке и в Чертолье. Чтобы остановить мятеж, поляки были принуждены поджечь несколько улиц. Раздуваемое сильным ветром, пламя к вечеру охватило уже весь город. В Кремле, где заперся польский гарнизон, ночью было светло как днем. В таких условиях, среди огня и дыма, Пожарскому пришлось сражаться с поляками, имея под началом всего лишь кучку верных ему людей. Рядом со своим домом на Сретенке, на собственном дворе он приказал построить ост-рожец, надеясь продержаться в Москве до прихода Ляпунова. В первый день восстания, соединившись с пушкарями из расположенного поблизости Пушечного двора, Пожарский после ожесточенного боя заставил отступить наемников-ландскнехтов в Китай-город. На второй день поляки подавили восстание во всем городе. К полудню держалась только Сретенка. Не сумев взять острожец штурмом, поляки подпалили окрестные дома. В завязавшемся последнем бою Пожарский был тяжело ранен в голову и ногу и потерял сознание. Его вынесли из Москвы и переправили в Троице-Сергиеву обитель на лечение.
За три дня боев большая часть Москвы сгорела. Торчали только стены Белого города с башнями, множество почерневших от дыма церквей, печи уничтоженных домов и каменные подклети. Поляки укрепились в Кремле и Китай-городе. Уже после подавления восстания к Москве стали подходить запоздавшие рати первого ополчения. Они осадили Кремль и Китай-город и начали ожесточенные схватки с поляками. Но с первого же дня между вождями ополчения возникли раздоры. Казаки, недовольные строгостями Ляпунова, 25 июля убили его. Предводителями ополчения после этого стали князь Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий, которые провозгласили наследником престола "воренка" - сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II.
Кузьма Минин был старше князя Пожарского на десять или пятнадцать лет. Детство его прошло в двадцати верстах от Нижнего Новгорода, в городке Балахне на Волге. Кузьма рос в многодетной семье балахнинского соледобытчика Мины Анкудинова. Отец его считался состоятельным человеком - имел за Волгой три деревни с 14 десятинами пахотной земли и 7 десятинами строевого леса. Кроме того, хороший доход давал ему соляной промысел. Никаких достоверных сведений о детстве и юности Минина до нас не дошло. В зрелые годы он владел лавкой на нижегородском торгу, "животинной бойницей" под стенами кремля и слыл богатым и почитаемым горожанином. В 1611 г., в самый разгар Смутного времени, нижегородцы избрали его земским старостой. Сообщают, что незадолго до выборов Минину явился во сне чудотворец Сергий Радонежский и повелел собирать казну для войска, чтобы идти на очищение Московского государства. Сделавшись старостой, Минин сразу стал вести с горожанами разговоры о необходимости объединяться, копить средства и силы для освобождения Отечества. От природы у него был дар красноречия, и он нашел среди сограждан немало сторонников. Собрав нижегородцев в Спасо-Преображенском соборе, Минин горячо убеждал их не оставаться в стороне от тягот России. "Буде нам похотеть помочи Московскому государству, - говорил он, - ино не пожалети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожалеть и дворы свои продавать, и жен и дети закладывать; и бити челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником". Нижегородцы, тронутые его словами, тут же всенародно приговорили начать сбор средств на ополчение. Первым внес свою долю Минин, по словам летописца, "мало что себе в дому своем оставив". Его примеру последовали другие. Минину поручили ведать сбором добровольных пожертвований - не только с горожан, но и со всего уезда, с монастырей и монастырских вотчин. Когда оказалось, что многие не спешат расстаться со своим имуществом, нижегородцы дали своему старосте полномочия облагать жителей любыми податями вплоть до изъятия имущества. Минин велел брать по пятой части от всего имущества. Большую помощь оказали ему богатые купцы и предприниматели. Одни Строгановы прислали на нужды ополчения около 5000 рублей - огромную по тем временам сумму. На собранные деньга нижегородцы стали нанимать охочих служилых людей, обещая им "корм и казну на подмогу давати". Подумали они и о воеводе. Перебрав множество имен, горожане остановили свой выбор на герое московского восстания князе Пожарском.
Поначалу князь ответил отказом. Однако нижегородцы не захотели отступать и послали к Пожарскому архимандрита Печерского монастыря Феодосия. Пожарский, которого, по его словам, "вся земля сильно приневолила", должен был дать согласие. С тех пор у ополчения стало два вождя, и в народном восприятии имена Минина и Пожарского слились в одно нерасторжимое целое. Благодаря их решительным действиям и полному согласию между собой Нижний вскоре стал центром патриотических сил всей России. На его призывы откликнулось не только Поволжье и старые города Московской Руси, но также Предуралье, Сибирь и отдаленные украинские земли. Город обратился в ратный стан. Со всех сторон потянулись сюда служилые дворяне. Первыми приехали смоляне, потом явились коломенцы и рязанцы, спешили из окраинных городов казаки и стрельцы, защищавшие прежде Москву от Тушинского вора. Всем им после осмотра назначалось жалование. Пожарский и Минин добивались, чтобы ополчение превратилось в хорошо вооруженное и сильное войско. Особое внимание уделяли коннице. Однако не забывали и о пехоте: новоприбывших снабжали пищалями и обучали слаженной прицельной стрельбе. В кузницах днем и ночью пылал в горнах огонь - бронники ковали булат, кольчужные кольца, пластины для доспехов, зерцала, наконечники копий и рогатин, в ямах отливали орудия. Кузьма Минин с немалы"" трудом закупал для кузниц древесный уголь, кричное железо, медь и олово. На помощь нижегородским кузнецам приехали кузнецы из Ярославля, Костромы и Казани. Между Нижним и другими русскими городами, не признавшими польского королевича, завязалась оживленная переписка. Нижегородцы звали всех "быти с ними в одном совете", чтобы избавиться от прежнего "межусобства", очистить государство от завоевателей, покончить с грабежами и разорением на родной земле, избрать царя только при всеобщем согласии и, сохраняя внутренний мир, обеспечить порядок. В феврале 1612 г. был образован "Совет всея земли".
На исходе зимы ополчение перебралось из Нижнего в Ярославль. Сюда со всех концов государства устремились защитники Отечества. Даже многие казаки, находившиеся в подмосковном лагере Заруцкого и Трубецкого, покидали свои таборы и уезжали в Ярославль. Подмосковный лагерь слабел, а войско Пожарского усиливалось. К нему беспрерывно стекались служилые дворяне, приказные чины, депутации из городов, гонцы от походных воевод, а к Минину шли волостные старосты, целовальники, казначеи, посошный и мастеровой люд. Положение его было очень непростым. Чтобы победить, надо было собрать средства для продолжения войны. Это дело оказалось трудным и неблагодарным. Войску требовалось много: оружие и боевые припасы, кони и продовольствие - это должно было поступать непрерывно и во все возрастающих количествах. Наладить такое снабжение мог только очень предприимчивый, расторопный и волевой человек, обладающий организаторским талантом и красноречием. Однако там, где увещевания не помогали, Минин не останавливался и перед жесткими мерами. Так, например, когда богатые ярославские купцы Никитников, Лыткин и Светешников отказались вносить установленную для них сумму денег, Минин приказал взять их под стражу, а все имущество изъять в пользу ополчения. Видя такую суровость и опасаясь еще худшего, купцы поспешили внести установленные деньги. Благодаря усилиям Минина служилые люди в народном ополчении не только не испытывали ни в чем недостатка, но и получали высокое по тем временам денежное жалование - в среднем около 25 рублей на человека. Для разрешения текущих дел при ополчении возникли один за другим Разрядный, Поместный, Монастырский и другие приказы. Минин даже сумел наладить работу Денежного двора, где из серебра чеканили монету, употребляемую на жалование ратным людям.
Летом 1612 г. пришла пора решительных действий. Засевший в Кремле польский гарнизон сильно нуждался в съестных припасах. На помощь ему из Польши шел большой обоз и подкрепление под командованием гетмана Ходкевича. В войске гетмана насчитывалось двенадцать тысяч человек, притом это были отборные солдаты - первоклассные наемники и цвет польской шляхты. Если бы им удалось соединиться с осажденными, победить поляков было бы очень трудно. Пожарский решил выступить навстречу Ходкевичу и дать ему бой на московских улицах. Передовые отряды второго ополчения стaли подходить к Москве в конце июля. Первыми явились четыреста конников под командованием Дмитриева и Левашова. Затем появился большой отряд князя Лопаты-Пожарского и сейчас же стал строить у Тверских ворот острожек. Казаки Заруцкого пытались помешать ему, однако потерпели поражение и обратились в бегство. Не дожидаясь подхода основных сил, Заруцкий с двумя тысячами казаков покинул подмосковный лагерь и отступил в Коломну. Из первого ополчения под стенами столицы остались только две тысячи казаков под началом князя Трубецкого. Пожарский имел под своим началом около десяти тысяч служилых ратных людей. Поэтому успех его во многом зависел от взаимодействия с казаками Трубецкого. Однако никакого согласия между двумя вождями не было - ни один из них не хотел подчиняться другому, и при личной встрече было решено не смешивать ярославскую рать с подмосковной, держаться отдельными станами, а биться вместе по договоренности.
Сам Пожарский расположился у Арбатских ворот. Он приказал срочно возводить здесь укрепления и копать ров. Линия фронта ополчения протянулась по черте Белого города от северных Петровских до Никитских ворот, где стояли авангардные отряды Дмитриева и Лопаты-Пожарского. От Никитских ворот через Арбатские до Чертольских, откуда ожидался лобовой удар гетманского войска, сосредоточились главные силы земской рати. Опасное расположение, как бы меж двух огней, дорого могло обойтись Пожарскому. Впереди на него надвигался гетман, подошедший к Поклонной горе, а сзади с кремлевских стен в спины ополчения были направлены пушки осажденного вражеского гарнизона. Если бы ополчение не выдержало удара Ходкевича, оно было бы оттеснено под пушки Китай-города и уничтожено. Оставалось только победить или погибнуть.
На рассвете 22 августа поляки стали переправляться через Москву-реку к Новодевичьему монастырю и скапливаться возле него. Как только гетманское войско двинулось на ополченцев, со стен Кремля грянули пушки, давая знак Ходкевичу, что гарнизон готов к вылазке. Бой начался с того, что русская дворянская конница при поддержке казаков устремилась навстречу врагу. Польские всадники имели в то время славу лучших кавалеристов Европы. Не раз в прежних сражениях их смелая слаженная атака приносила победу. Но теперь русские ратники держались с невиданным упорством. Чтобы добиться перевеса, Ходкевич должен был бросить в бой пехоту. Русская конница отступила к своим укреплениям, откуда стрельцы повели огонь по наступающему врагу.
В это время польский гарнизон предпринял вылазку из Кремля и обрушился с тыла на стрельцов, которые прикрывали ополчение у Алексеевской башни и Чертольских ворот. Однако стрельцы не дрогнули. Здесь тоже завязалась ожесточенная схватка. Потеряв множество своих, осажденные вынуждены были вернуться под защиту укреплений. Ходкевич также не добился успеха. Все его атаки на русские полки были отбиты. Удрученный неудачей он вечером отступил к Поклонной горе. На следующий день 23 августа сражения не было. Ополченцы хоронили убитых, а поляки перегруппировывали свои силы. 24 августа Ходкевич решил пробиваться к Кремлю через Замоскворечье и передвинул свои полки к Донскому монастырю. На этот раз атака поляков была такой мощной, что русские ратники дрогнули. Около полудня они были оттеснены к Крымскому броду и в беспорядке переправлялись на другой берег. Поляки могли без труда пробиться к Кремлю, и Ходкевич велел двинуть на Большую Ордынку четыреста тяжело груженных подвод.
Положение стало критическим. Не имея собственных сил для того, чтобы остановить продвижение врага, Пожарский отправил к казакам Трубецкого троицкого келаря Авраамия Палицына с тем, чтобы призвать их к совместным действиям. Посольство это увенчалось успехом. Горячей речью Палицын возбудил в казаках патриотические чувства. Они поспешили к Ордынке и вместе с ратниками Пожарского напали на обоз. Поляки с трудом отбили его и отступили. Это сражение окончательно лишило сил обе армии. Бои стали затихать. Приближался вечер. Казалось, что военные действия на этот день завершились. Однако как раз в этот момент Минин с небольшим отрядом, в котором едва насчитывалось четыре сотни человек, скрытно переправился через Москву-реку напротив Крымского двора и ударил во фланг полякам. Эта атака оказалась совершенно неожиданной для них. Гетманские роты, расположившиеся здесь, не успели изготовиться к отпору. Внезапное появление русских нагнало на них страху. Началась паника. Между тем, увидев успех смельчаков, на помощь Минину стали поспешно переправляться другие полки. Натиск русских нарастал с каждой минутой. Поляки в беспорядке отступили за Серпуховские ворота. Весь обоз с провиантом оказался в руках казаков. Неудача Ходкевича была полной. Собрав свое войско у Донского монастыря, он на другой день, 25 августа, отступил от Москвы. Для запертого в Кремле польского гарнизона это было настоящей катастрофой.
После победы силы двух ополчений объединились. Отныне все грамоты писались от имени трех руководителей: князя Трубецкого, князя Пожарского и "выборного Человека" Кузьмы Минина. 22 октября осаждавшие захватили Китай-город, а через три дня истощенный голодом гарнизон Кремля сдался.
Следующим важным делом была организация центральной власти. В первые же дни после очищения Москвы земский совет, в котором соединились участники Первого и Второго ополчений, повел речь о созыве Земского собора и избрании на нем царя. Было решено "на договор о Божьем и о земском большом деле" созвать в Москву выборных со всей России и "изо всяких чинов людей" по десять человек от городов. На Собор приглашались представители белого и черного духовенства, дворяне и дети боярские, служилый люд - пушкари, стрельцы, казаки, посадские и уездные жители, крестьяне. Этот исторический собор собрался в начале 1613 г. и после долгих обсуждений 21 февраля 1613 г. избрал на царствие шестнадцатилетнего Михаила Романова. С приездом его в Москву история Земского ополчения закончилась. Деяния Минина и Пожарского не были забыты царем. Пожарский получил чин боярина, а Минин стал думным дворянином; государь пожаловал ему во владение большую вотчину - село Богородское в Нижегородском уезде с окрестными деревнями. Вплоть до самой смерти Минин пользовался большим доверием Михаила. В 1615 г., отъезжая на богомолье, царь оставил за себя в Москве пятерых наместников и Минина в их числе. В 1615 г. по поручению Михаила Минин ездил для следствия в Казань. Возвращаясь в 1616 г. назад, он неожиданно заболел и умер по дороге. Тело его было погребено в родном Нижнем Новгороде, князь Пожарский намного пережил своего соратника, находясь на службе почти до самого конца Михайлова царствования. Он участвовал еще во многиx сражениях, но уже никогда не имел того значения, что в дни Второго ополчения. В 1615 г. Пожарский нанес под Орлом поражение знаменитому польскому авантюристу Лисовскому, в 1616 г. ведал в Москве "казенными деньгами", в 1617 г. оборонял от литовских налетчиков Калугу, в 1618 г. ходил к Можайску на выручку русской армии, осажденной королевичем Владиславом а потом был среди воевод, оборонявших Москву от армии гетмана Ходкевича, попытавшегося во второй раз овладеть русской столицей. Как и прежде, он "на боях и на приступах бился, не щадя головы своей". По окончании Смуты Пожарский некоторое время ведал Ямским приказом, сидел в Разбойном, был воеводою в Новгороде, потом опять был переведен в Москву в Поместный приказ. Уже на склоне лет он руководил строительством новых укреплений вокруг Москвы, а потом возглавлял Судный приказ. В 1636 г., после смерти первой жены, он женился во второй раз на урожденной княжне Голицыной. Умер Пожарский в апреле 1642 г.
КУЗЬМА МИНИН И ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 г в семье князя Михаила Федоровича Пожарского Предками Пожарских были удельные князья Стародубские (младшая ветвь Владимиро-Суздальских князей), но им мало чего перепало от их прежнего величия С течением времени небольшая Стародубская волость оказалась поделенной на множество маленьких вотчин между многочисленными представителями обособившихся и обедневших семей, так что, несмотря на свое происхождение от Рюрика и Юрия Долгорукого, Пожарские числились в ряду захудалых фамилий и даже не попали в Разрядные книги Отец Дмитрия умер, когда ему было всего девять лет Мать - Мария Федоровна, урожденная Берсенева-Беклемишева - переехала вскоре после этого в Москву, где у Пожарских был свой дом на Сретенке С 1593 г князь Дмитрий начал службу при государевом дворе царя Федора Ивановича Поначалу он был «стряпчим с платьем», в обязанности которого входило под присмотром посгельничего подавать туалетные принадлежности при облачении Царя или принимать одежду с прочими вещами, когда царь раздевается В те же годы, еще в очень молодых летах, он женился В начале царствования Бориса Годунова князя Пожарского перевели в стольники Он получил поместье под Москвой и затем был отправлен из столицы в армию на литовский Рубеж.
После смерти Годунова Пожарский присягнул царевичу Дмитрию. В продолжение всего его короткого царствования он оставался а тени. Только при следующем царе - Василии Шуйском - Пожарского назначили воеводой, и он получил под начало конный отряд. Верность его в боях с; тушинцами вскоре была замечена. За исправную службу царь пожаловал ему в Суздальском уезде село Нижний Ландех с двадцатью деревнями.
В жалованной грамоте между прочим говорилось: «Князь Дмитрий Михайлович, будучи в Москве в осаде, против врагов стоял крепко и мужественно, и к царю Василию и к Московскому государству многую службу и дородство показал, голод и во всем оскудение и всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на какую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо всякие шатости». В 1610 г. царь назначил Пожарского воеводой в Зарайск. Прибыв в эту крепость, он узнал о низложении Шуйского заговорщиками во главе с Захарием Ляпуновым и поневоле вместе со всем городом целовал крест польскому королевичу Владиславу.
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в Москве Но вскоре прошел слух, что московские бояре во всем предались полякам и делают все по их указке, что король Сигизмунд сына своего в Россию не отсылает, а хочет сам царствовать над Русью, двинулся на русские пределы со своей ратью и осадил Смоленск. Тогда по всем русским городам стало подниматься волнение и возмущение. Повсюду говорили, что пора вставать за Отечество и православную веру. Общие настроения выразил рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, который писал в своих воззваниях: «Встанем крепко, примем оружие Божие и щит веры, подвигнем всю землю к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами московского государства учиним совет: кому быть на московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на московское государство, крестивши его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему государю, Владиславу Жигимонтовичу, целуем крест и будем ему холопами, а не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российской земли стоять и биться. У нас одна дума: или веру православную нашу очистить или всем до одного помереть».
В скором времени между Пожарским и Прокопием Ляпуновым установилась крепкая связь. В 1611 г. Пожарский из Зарайска даже ездил выручать Ляпунова, осажденного в Пронске московским войском и запорожскими казаками. Затем он отбил московского воеводу Сунбулова, который ночью попытался захватить Зарайск и уже овладел посадами. После победы, оставив крепость на помощников, Пожарский тайком отправился в захваченную поляками Москву, где начал подготовлять народное восстание. Оно началось стихийно 19 марта 1611 г. Зная, что к столице направились большие силы, прослышав о продвижении Ляпунова из Рязани, князя Василия Мосальского из Мурома, Андрея Просовецкого из Суздаля, Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого из Тулы и Калуги, ополченцев из Галича, Ярославля и Нижнего Новгорода, москвичи не стали дожидаться освободителей, а сами взялись за дреколье. Схватка завязалась в торговых рядах Китай-города и быстро распространилась по Москве. На улицах вырастали завалы, закипели кровавые бои на Никитинской улице, на Арбате и Кулишках, на Тверской, на Знаменке и в Чертолье. Чтобы остановить мятеж, поляки были принуждены поджечь несколько улиц. Раздуваемое сильным ветром, пламя к вечеру охватило уже весь город. В Кремле, где заперся польский гарнизон, ночью было светло как днем.
В таких условиях, среди огня и дыма, Пожарскому пришлось сражаться с поляками, имея под началом всего лишь кучку верных ему людей. Рядом со своим домом на Сретенке, на собственном дворе он приказал построить острожец, надеясь продержаться в Москве до прихода Ляпунова. В первый день восстания, соединившись с пушкарями из расположенного поблизости Пушечного двора, Пожарский после ожесточенного боя заставил отступить наемников-ландскнехтов в Китай-город. На второй день поляки подавили восстание во всем городе. К полудню держалась только Сретенка. Не сумев взять острожец штурмом, поляки подпалили окрестные дома. В завязавшемся последнем бою Пожарский был тяжело ранен в голову и ногу и потерял сознание.
Его вынесли из Москвы и переправили в Троице-Сергиеву обитель на лечение.
За три дня боев большая часть Москвы сгорела. Торчали только стены Белого города с башнями, множество почерневших от дыма церквей, печи уничтоженных домов и каменные подклети. Поляки укрепились в Кремле и Китай-городе. Уже после подавления восстания к Москве стали подходить запоздавшие рати первого ополчения. Они осадили Кремль и Китай-город и начали ожесточенные схватки с поляками. Но с первого же дня между вождями ополчения возникли раздоры. Казаки, недовольные строгостями Ляпунова, 25 июля убили его. Предводителями ополчения после этого стали князь Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий, которые провозгласили наследником престола «воренка» - сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II.
Кузьма Минин был старше князя Пожарского на десять или пятнадцать лет. Детство его прошло в двадцати верстах от Нижнего Новгорода, в городке Балахне на Волге. Кузьма рос в многодетной семье балахнинского соледобытчика Мины Анкудинова. Отец его считался состоятельным человеком - имел за Волгой три деревни с 14 десятинами пахотной земли и 7 десятинами строевого леса. Кроме того, хороший доход давал ему соляной промысел. Никаких достоверных сведений о детстве и юности Минина до нас не дошло. В зрелые годы он владел лавкой на нижегородском торгу, «животинной бойницей» под стенами кремля и слыл богатым и почитаемым горожанином. В 1611 г., в самый разгар Смутного времени, нижегородцы избрали его земским старостой. Сообщают, что незадолго до выборов Минину явился во сне чудотворец Сергий Радонежский и повелел собирать казну для войска, чтобы идти на очищение Московского государства. Сделавшись старостой, Минин сразу стал вести с горожанами разговоры о необходимости объединяться, копить средства и силы для освобождения Отечества. От природы у него был дар красноречия, и он нашел среди сограждан немало сторонников. Собрав нижегородцев в Спасо-Преображенском соборе, Минин горячо убеждал их не оставаться в стороне от тягот России. «Буде нам похотеть помочи Московскому государству, - говорил он, - ино не пожалети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожалеть и дворы свои продавать, и жен и дети закладывать; и бити челом, кто бы вступился за истинную православную веру, и был бы у нас начальником». Нижегородцы, тронутые его словами, тут же всенародно приговорили начать сбор средств на ополчение. Первым внес свою долю Минин, по словам летописца, «мало что себе в дому своем оставив». Его примеру последовали другие. Минину поручили ведать сбором добровольных пожертвований - не только с горожан, но и со всего уезда, с монастырей и монастырских вотчин.
Когда оказалось, что многие не спешат расстаться со своим имуществом, нижегородцы дали своему старосте полномочия облагать жителей любыми податями вплоть до изъятия имущества. Минин велел брать по пятой части от всего имущества. Большую помощь оказали ему богатые купцы и предприниматели. Одни Строгановы прислали на нужды ополчения около 5000 рублей - огромную по тем временам сумму. На собранные деньги нижегородцы стали нанимать охочих служилых людей, обещая им «корм и казну на подмогу давати». Подумали они и о воеводе. Перебрав множество имен, горожане остановили свой выбор на герое московского восстания князе Пожарском.
Поначалу князь ответил отказом. Однако нижегородцы не захотели отступать и послали к Пожарскому архимандрита Печерского монастыря Феодосия. Пожарский, которого, по его словам, «вся земля сильно приневолила», должен был дать согласие. С тех пор у ополчения стало два вождя, и в народном восприятии имена Минина и Пожарского слились в одно нерасторжимое целое. Благодаря их решительным действиям и полному согласию между собой Нижний вскоре стал центром патриотических сил всей России. На его призывы откликнулось не только Поволжье и старые города Московской Руси, но также Предуралье, Сибирь и отдаленные украинские земли. Город обратился в ратный стан. Со всех сторон потянулись сюда служилые дворяне.
Первыми приехали смоляне, потом явились коломенцы и рязанцы, спешили из окраинных городов казаки и стрельцы, защищавшие прежде Москву от Тушинского вора. Всем им после осмотра назначалось жалование. Пожарский и Минин добивались, чтобы ополчение превратилось в хорошо вооруженное и сильное войско. Особое внимание уделяли коннице. Однако не забывали и о пехоте; новоприбывших снабжали пищалями и обучали слаженной прицельной стрельбе, В кузницах днем и ночью пылал в горнах огонь - бронники ковали булат, кольчужные кольца, пластины для доспехов, зерцала, наконечники копий и рогатин, в ямах отливали орудия. Кузьма Минин с немалым трудом закупал для кузниц древесный уголь, кричное железо, медь и олово.
На помощь нижегородским кузнецам приехали кузнецы из Ярославля, Костромы и Казани. Между Нижним и другими русскими городами, не признавшими польского королевича, завязалась оживленная переписка. Нижегородцы звали всех «быта с ними в одном совете», чтобы избавиться от прежнего «межусобства», очистить государство от завоевателей, покончить с грабежами и разорением на родной земле, избрать царя только при всеобщем согласии и, сохраняя внутренний мир, обеспечить порядок. В феврале 1612 г. был образован «Совет всея земли».
На исходе зимы ополчение перебралось из Нижнего в Ярославль. Сюда со всех концов государства устремились защитники Отечества. Даже многие казаки, находившиеся в подмосковном лагере Заруцкого и Трубецкого, покидали свои таборы и уезжали в Ярославль. Подмосковный лагерь слабел, а войско Пожарского усиливалось. К нему беспрерывно стекались служилые дворяне, приказные чины, депутации из городов, гонцы от походных воевод, а к Минину шли волостные старосты, целовальники, казначеи, посошный и мастеровой люд. Положение его было очень непростым. Чтобы победить, надо было собрать средства для продолжения войны. Это дело оказалось трудным и неблагодарным. Войску требовалось много: оружие и боевые припасы, кони и продовольствие - это должно было поступать непрерывно и во все возрастающих количествах. Наладить такое снабжение мог только очень предприимчивый, расторопный и волевой человек, обладающий организаторским талантом и красноречием. Однако там, где увещевания не помогали, Минин не останавливался и перед жесткими мерами. Так, например, когда богатые ярославские купцы Никитников, Лыткин и Светешников отказались вносить установленную для них сумму денег, Минин приказал взять их под стражу, а все имущество изъять в пользу ополчения. Видя такую суровость и опасаясь еще худшего, купцы поспешили внести установленные деньги. Благодаря усилиям Минина служилые люди в народном ополчении не только не испытывали ни в чем недостатка, но и получали высокое по тем временам денежное жалование - в среднем около 25 рублей на человека. Для разрешения текущих дел при ополчении возникли один за другим Разрядный, Поместный, Монастырский и другие приказы. Минин даже сумел наладить работу Денежного двора, где из серебра чеканили монету, употребляемую на жалование ратным людям.
Летом 1612 г. пришла пора решительных действий. Засевший в Кремле польский гарнизон сильно нуждался в съестных припасах. На помощь ему из Польши шел большой обоз и подкрепление под командованием гетмана Ходкевича. В войске гетмана насчитывалось двенадцать тысяч человек, притом это были отборные солдаты - первоклассные наемники и цвет польской шляхты. Если бы им удалось соединиться с осажденными, победить поляков было бы очень трудно. Пожарский решил выступить навстречу Ходкевичу и дать ему бой на московских улицах. Передовые отряды второго ополчения стали подходить к Москве в конце июля. Первыми явились четыреста конников под командованием Дмитриева и Левашова. Затем появился большой отРяд князя Лопаты-Пожарского и сейчас же стал строить у Тверских ворот острожек. Казаки Заруцкого пытались помешать ему, однако потерпели поражение и обратились в бегство. Не дожидаясь подхода основных сил, Заруцкий с Двумя тысячами казаков покинул подмосковный лагерь и отступил в Коломну. Из первого ополчения под стенами столицы остались только две тысячи казаков под началом князя Трубецкого. Пожарский имел под своим началом около десяти тысяч служилых ратных людей. Поэтому успех его во многом зависел от взаимодействия с казаками Трубецкого Однако никакого согласия между двумя вождями не было - ни один из них не хотел подчиняться другому, и при личной встрече было решено не смешивать ярославскую рать с подмосковной, держаться отдельными станами, а биться вместе по договоренности.
Сам Пожарский расположился у Арбатских ворот. Он приказал срочно возводить здесь укрепления и копать ров. Линия фронта ополчения протянулась по черте Белого города от северных Петровских до Никитских ворот, где стояли авангардные отряды Дмитриева и Лопаты-Пожарского. От Никитских ворот через Арбатские до Чертольских, откуда ожидался лобовой удар гетманского войска, сосредоточились главные силы земской рати. Опасное расположение, как бы меж двух огней, дорого могло обойтись Пожарскому. Впереди на него надвигался гетман, подошедший к Поклонной горе, а сзади с кремлевских стен в спины ополчения были направлены пушки осажденного вражеского гарнизона. Если бы ополчение не выдержало удара Ходкевича, оно было бы оттеснено под пушки Китай-города и уничтожено. Оставалось только победить или погибнуть.
На рассвете 22 августа поляки стали переправляться через Москву-реку к Новодевичьему монастырю и скапливаться возле него. Как только гетманское войско двинулось на ополченцев, со стен Кремля грянули пушки, давая знак Ходкевичу, что гарнизон готов к вылазке. Бой начался с того, что русская дворянская конница при поддержке казаков устремилась навстречу врагу Польские всадники имели в то время славу лучших кавалеристов Европы Не раз в прежних сражениях их смелая слаженная атака приносила победу. Но теперь русские ратники держались с невиданным упорством. Чтобы добиться перевеса, Ходкевич должен был бросить в бой пехоту Русская конница отступила к своим укреплениям, откуда стрельцы повели огонь по наступающему врагу.
В это время польский гарнизон предпринял вылазку из Кремля и обрушился с тыла на стрельцов, которые прикрывали ополчение у Алексеевской башни и Чертольских ворот. Однако стрельцы не дрогнули. Здесь тоже завязалась ожесточенная схватка. Потеряв множество своих, осажденные вынуждены были вернуться под защиту укреплений. Ходкевич также не добился успеха. Все его атаки на русские полки были отбиты Удрученный неудачей он вечером отступил к Поклонной горе.
На следующий день 23 августа сражения не было. Ополченцы хоронили убитых, а поляки перегруппировывали свои силы 24 августа Ходкевич решил пробиваться к Кремлю через Замоскворечье и передвинул свои полки к Донскому монастырю На этот раз атака поляков была такой мощной, что русские ратники дрогнули. Около полудня они были оттеснены к Крымскому броду и в беспорядке переправлялись на другой берег. Поляки могли без труда пробиться к Кремлю, и Ходкевич велел двинуть на Большую Ордынку четыреста тяжело груженных подвод.
Положение стало критическим. Не имея собственных сил для того, чтобы остановить продвижение врага, Пожарский отправил к казакам Трубецкого - троицкого келаря Авраамия Палицына с тем, чтобы призвать их к совместным действиям. Посольство это увенчалось успехом. Горячей речью Палицын возбудил в казаках патриотические чувства. Они поспешили к Ордынке и вместе с ратниками Пожарского напали на обоз. Поляки с трудом отбили его и отступили. Это сражение окончательно лишило сил обе армии. Бои стали затихать.
Приближался вечер. Казалось, что военные действия на этот день завершились. Однако как раз в этот момент Минин с небольшим отрядом, в котором едва насчитывалось четыре сотни человек, скрытно переправился через Москву-реку напротив Крымского двора и ударил во фланг полякам. Эта атака оказалась совершенно неожиданной для них. Гетманские роты, расположившиеся здесь, не успели изготовиться к отпору. Внезапное появление русских нагнало на них страху. Началась паника. Между тем, увидев успех смельчаков, на помощь Минину стали поспешно переправляться другие полки. Натиск русских нарастал с каждой минутой. Поляки в беспорядке отступили за Серпуховские ворота. Весь обоз с провиантом оказался в руках казаков. Неудача Ходкевича была полной. Собрав свое войско у Донского монастыря, он на другой день, 25 августа, отступил от Москвы. Для запертого в Кремле польского гарнизона это было настоящей катастрофой.
После победы силы двух ополчений объединились. Отныне все грамоты писались от имени трех руководителей: князя Трубецкого, князя Пожарского и «выборного человека» Кузьмы Минина. 22 октября осаждавшие захватили Китай-город, а через три дня истощенный голодом гарнизон Кремля сдался.
Следующим важным делом была организация центральной власти В первые же дни после очищения Москвы земский совет, в котором соединились участники Первого и Второго ополчений, повел речь о созыве Земского собора и избрании на нем царя. Было решено «на договор о Божьем и о земском большом деле» созвать в Москву выборных со всей России и «изо всяких чинов людей» по десять человек от городов На Собор приглашались представители белого и черного духовенства, дворяне и дети боярские, служилый люд - пушкари, стрельцы, казаки, посадские и уездные жители, крестьяне.
Этот исторический собор собрался в начале 1613 г. и после долгих обсуждений 21 февраля 1613 г. избрал на царствие шестнадцатилетнего Михаила Романова. С приездом его в Москву история Земского ополчения закончилась.
Деяния Минина и Пожарского не были забыты царем Пожарский получил чин боярина, а Минин стал думным дворянином; государь пожаловал ему во владение большую вотчину - село Богородское в Нижегородском уезде с окрестными деревнями. Вплоть до самой смерти Минин пользовался большим доверием Михаила. В 1615 г., отъезжая на богомолье, царь оставил за себя в Москве пятерых наместников и Минина в их числе. В 1615 г. по поручению Михаила Минин ездил для следствия в Казань. Возвращаясь в 1616 г. назад, он неожиданно заболел и умер по дороге Тело его было погребено в родном Нижнем Новгороде.
Князь Пожарский намного пережил своего соратника, находясь на службе почти до самого конца Михайлова царствования Он участвовал еще во многих сражениях, но уже никогда не имел того значения, что в дни Второго ополчения. В 1615 г Пожарский нанес под Орлом поражение знаменитому польскому авантюристу Лисовскому, в 1616 г. ведал в Москве «казенными деньгами», в 1617 г. оборонял от литовских налетчиков Калугу, в 1618 г ходил к Можайску на выручку русской армии, осажденной королевичем Владиславом, а потом был среди воевод, оборонявших Москву от армии гетмана Ходкевича, попытавшегося во второй раз овладеть русской столицей. Как и прежде, он «на боях и на приступах бился, не щадя головы своей». По окончании Смуты Пожарский некоторое время ведал Ямским приказом, сидел в Разбойном, был воеводою в Новгороде, потом опять был переведен в Москву в Поместный приказ. Уже на склоне лет он руководил строительством новых укреплений вокруг Москвы, а потом возглавлял Судный приказ. В 1636 г после смерти первой жены, он женился ео второй раз на урожденной княжне Голицыной. Умер Пожарский в апреле 1642 г.
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги 100 великих россиян автора Рыжов Константин ВладиславовичКУЗЬМА МИНИН И ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 г в семье князя Михаила Федоровича Пожарского Предками Пожарских были удельные князья Стародубские (младшая ветвь Владимиро-Суздальских князей), но им мало чего перепало от их прежнего величия С
автора Олейник АндрейРасстаемся по-честному (Алекс Экслер, Егор Минин) В юности была у меня одна подруга. Любила меня, как кот сметану. А мне надо было учиться, заниматься общественной работой и овладевать смежными профессиями. Так вот, чего я только не делал, чтобы с ней расстаться. Сначала,
Из книги Энциклопедия пикапа. Версия 12.0 автора Олейник АндрейУверенность в себе (Дмитрий Писаренко, Дмитрий Очнев, Валерий Ямшанов) Идя на контакт с кем-то, ты заранее обделяешь себя, ставишь в зависимое положение, отказываясь от того, на что имеешь право. Дело в том, что в отношениях между людьми приняты некоторые условности,
Из книги Кто есть кто в истории России автора Ситников Виталий ПавловичКто такие Минин и Пожарский? С сентября 1610 года Москва была занята польскими войсками. Боярское правительство договорилось с королем Польши Сигизмундом III о признании его сына Владислава русским царем, но на условиях независимости государственной жизни, православной
Из книги Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения автора Ведина Тамара ФедоровнаМИНИН Фамилия с точки зрения происхождения вполне прозрачная. В ее основе – православные имена Мина, Миней или Минеон, имеющие в переводе с греческого одно значение – ‘месяц’. Разговорная форма имени Мина – Минай. «Однофамильцы» великого русского деятеля времен Смуты
Из книги Мифологический словарь автора Арчер ВадимМинин (греч.) - царь Орхомена (Беотия), родоначальник племени миниев. Отец трех дочерей - Левкиппы, Арсиппы и Алкифои. Из всех женщин Орхомена только дочери М. отказались принимать участие в празднествах Диониса и не примкнули к вакханкам, встретив призывы бога
Из книги Энциклопедический словарь (М) автора Брокгауз Ф. А.Минин Минин (полное имя – Кузьма Минич [Минин сын] Захарьев Сухорукий) – славный деятель Смутного времени; нижегородский гражданин, продавец мяса и рыбы, служивший в молодости в ополчении Алябьева и Репнина, земский староста и начальник судных дел у посадных людей; был в
Из книги Энциклопедический словарь (П) автора Брокгауз Ф. А.Пожарский Пожарский (кн. Дмитрий Михайлович, 1678 – ок. 1641) – знаменитый деятель смутного времени. При Борисе Годунове был стряпчим с платьем, при Лжедмитрии – стольником; в 1608 г. послан был для защиты Коломны; в 1609 г., действуя против разбойнических шаек в окрестностях
Из книги Большая Советская Энциклопедия (ПО) автора БСЭ БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (МИ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (МИ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ТР) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЧО) автора БСЭ Из книги 100 знаменитых москвичей автора Скляренко Валентина МарковнаПожарский Дмитрий Михайлович (род. в 1578 г. – ум. в 1642 г.) Российский государственный и военный деятель. Нес службу при дворе Бориса Годунова и Лжедмитрия I. Вместе с Кузьмой Мининым возглавил нижегородское ополчение и в 1613 – 1618 гг. руководил военными действиями против
Из книги Большой словарь цитат и крылатых выражений автора Душенко Константин ВасильевичМИНИН, Кузьма Минич (?-1616), нижегородский посадский, один из руководителей 2го земского ополчения 1611–1612 гг. 671…Не токмо животов своих, ино нам не пожалеть и дворы свои продавать и жены и дети закладывать. Речь перед нижегородцами в сент. 1611 г. с призывом жертвовать деньги